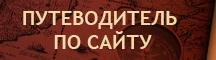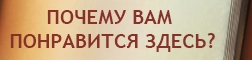ТЕНЬ ЭКЗАРХА на БЕЛОМ МОРЕ


Памяти экзарха Леонида Фёдорова
Земля была растоптана и сожжена раскаленной лавой ,горы распораны и свалены камни,
вырваны с корнем вековые деревья ,редкие жилища ,когда-то обустроенные смельчаками на этом несколько ранее благодатном месте, исчезли и повсюду витала плотная тень Кентавра… Однако катаклизмы природы сменились первым снегом, подули теплые ветра, принесшие ощущение новой весны , вскоре поднялись первые цветы и воспрянули травы, от подкошенных деревьев –исполинов отпочковались зеленые ростки и появился первый инок, пешествующий –так началась новая история этой земли.
В ту весну юная художница пыталась войти в тень высокопоставленного монаха и замерла от предвкушения проникнуть в его святая святых, боясь пошелохнуться, однако испытывая при этом страх.. Сам же монах казался ей роскошно красивым и вызывал желание нарисовать тень от чёрного кафтана, в пространстве которой она придержала шаг. В ту пору Эдит, так звали послушницу, шёл пятнадцатый, она была почти девственница, не считая того момента, когда воскресным вечером обнималась с мальчиком в обмен на большую жёлтую айву. Дерево было низким, раскидистым, айва же, такая красивая и одна выспела почти у самой макушки. Эдит поднялась на ствол, крепко ухватившись за ветви, выгнулась и, вобрав в грудь воздуха, притянула золотой плод, айва вдруг выскользнула, потому что ладошка у художницы была маленькой и не смогла удержать плод, и тот упал в траву; Эдит, ударившись, вся раскрывшись; её белая пышная грудь смутила Наума, так звали её первого мальчика ,хотя его плечи прикрывала сутана; он, отыскав в траве айву, стал утешать девушку, и они вместе надкусили вязкий, но сочный плод.
– Я сорву твой первоцвет, Эдит, – сказал Наум, – в обмен подарю одно заклинание. Я вкушу только раз, ощущая запах твоего первоцвета, ты же будешь пользоваться моим заклинанием до той поры, пока не забудешь, – мальчик прижал к себе Эдит, полный страсти – только будь спокойна, верь мне, придёт время и ты встретишь моего собрата Эди, недаром я назван Н а у м о м, то есть у т е ш е н и е м, лишь скажи шёпотом на ушко: «Наум, я твоя». Эдит не заставила себя долго уговаривать и раскрыла первоцвет, зато теперь знала от Наума, как можно на полчаса обернуться белой розой и возвыситься над суетой мирской. А при расставании Наум шепнул:- учти, я дарю тебе заклинание ради Эди, но для этого ты должна выйти на тропу нового Корвея, обители ,построенной воображением моего друга-.
Итак, монах был высок и широк в кости, расшитый пояс охватывал его тёмно-синий кашемировый кафтан, полы самой одежды касались земли, так что не было видно в сандалиях он, или босиком.
Монах ступал по росной шелковистой траве, оставляя глубокий след на мягком суглинке. Налетел порыв ветра со стороны моря , неожиданно тень монаха растворилась вместе с ним. Может, он свернул за посадку акаций, разросшихся стеной неподалёку от обители, где Эдит в скором будущем начнёт своё великое послушание, учась уму-разуму и совершенствуя перо мастера.
Потеряв монаха из виду, художница присела на корточки, изучая след, оставленный им на примятой траве. Чуть далее возвышались остроконечные крутые горы, закрывавшие Белое море с востока. У подошвы возник новый силуэт в черном одеянии, вскоре его тень упала перед лицом Эдит, и она увидела совсем молоденького юношу, его длинные волосы были зачёсаны назад и схвачены тростинкою, округлая бородка и усы с баками так умилили Эдит, что она хмыкнула.
– Чего смеёшься, глупышка,- спросил он, вынув из разреза платья чётки и затеребив их в правой руке.
Эдит не нашлась что ответить, лишь пожала плечами, вырвала из планшета лист бумаги и стала делать в карандаше набросок интересного лица на ходу.
– Как тебя зовут, красавица? – меж тем спросил он, оглядывая юное создание в столь импозантном виде, – как ты оказалась рядом с нашей обителью? Не каждому человеку, даже знатному, удаётся сюда попасть.
– Я.., Эдит, утром мне повезло войти в тень высокого монаха, которая привела меня сюда, – Эдит оглянулась, – а здесь восхитительно красиво, за горами слышен прибой моря, ваша обитель в цветах, из белого камня, с золотыми маковками.
– Ты хочешь покреститься? – спросил юноша, увидев, что на её открытой белой груди нет креста, – он протянул к её пухлым губам распятие. Эдит шагнула и склонилась в поцелуе, блуза раздалась, в глубокой впадине девичьей груди открылась белая роза.
– Откуда у тебя такая красивая роза? – юноша коснулся лепестка бутона, – так пахнет…
– Это белая роза от Наума, – сказала она тихо, – но вы тоже можете подарить такую же, Эдит и с вами будет послушна.
– Не понял, – молоденький батюшка удивился, – ты говоришь загадками, – помедлив, переспросил, – ну так что?
– Да, – сказала Эдит, замерев под пристальным взглядом незнакомца в чёрном одеянии, – только ты не назвал своего имени, – художница неожиданно перешла в разговоре на «ты»… о т е ц?
– Зови меня просто Л у и с, – он засмеялся, – я только готовлюсь к рукоположению в священники.
– Л у и с? – воскликнула она, – какое красивое имя, – удивилась, – чьё оно?
– Испанское, – ответил он, – если хочешь покреститься, пошли, я отведу тебя к своему учителю, настоятелю этой обители.
Луис свернул по тропе, увитой цветущим барвинком, к церкви.
– Когда я увидела тебя на горе, – сказала Эдит, – то сразу поняла, что это знак божий.
В пути молодым попалась примула, художница присела, разглядывая первенький цветок весны. Луис оглянулся и придержал шаг.
– Эдит, ты нашла ключик к весне, выходит, ты счастливая, тебе покровительствует сама богиня Флора, может, она следует за нами, развевая над нами голубой шлейф.
Эдит восторженно вскинула руки: – Луис, ты слышишь, что спрашивает одуванчик у примулы:
– Разве ты обучена языку цветов? – удивился Луис.
– Ну, конечно, языку цветов научил меня один мальчик, с которым я рвала айву. Он открыл одно заклинание, – Эдит слегка встряхнула грудью и снова приоткрыла белую розу.
– Ах, значит, у тебя был мальчик? – переспросил Луис.
– Да, совсем немножко, – сказала она беспечно, – он оказался липким и я ничего не поняла.
Луис усмехнулся: – так что же одуванчик спрашивает у примулы? – Луис присел с Эдит, сорвал примулку и вставил её в петельку блузы.
– Куда ты подевала ключик? – вопрошает одуванчик у примулы, – Эдит взяла шершавую руку Луиса и поцеловала в запястье – примула же отвечает: – я отдала их Вербному Воскресению, – Эдит расхохоталась, – Вербное Воскресение, куда подевался ключик?… Ключик отдан Чистому Четвергу. «Теперь пришла очередь допытываться у Чистого Четверга, кому он вверил ключик весны?» Случилось так, что мне захотелось отдать ключик Святому Юрию, но на пути вырос принц Эдвард Миляховский и перекрыл весну, пошёл дождь с градом с куриное яйцо и побил все цветки айвы. Выходит ключик у принца…Эди, -и она слегка смутилась, однако Луис этого не заметил, расхохотавшись: – какая забавная девушка, кто же такой Эдвард Миляховский?
Эдит смутилась и пожала плечами: – принц возник сам по себе. В ту минуту мне стало так хорошо, что закружилась голова, и я растеряла все мысли, но всё-таки удалось поймать одну на лету ,и она увела меня в рай.
– И что же ты увидела в раю? – Луис улыбнулся.
– Я увидела сад, в котором цвела золотая айва, – она вздохнула, – да, вспомнила, – принц Эдвард – отражение, а вот чьё, не помню, потому что снова провалилась в бездну.
– А знаешь, мой новый друг, почему пошёл град с куриное яйцо? – после паузы Эдит продолжила, – потому что на той земле священники курили.
– Это мне не грозит, Эдит, – Луис, засмеявшись, взял её за руку, – пошли в церковь, пока владыка Амвросий в отъезде, мы оцерквим тебя.
– Это будет возвышенно? – спросила Эдит.
– Надеюсь, – ответил Луис, – мы увидим тебя христианкой, – и Луис застегнул на верхнюю пуговичку блузу Эдит.
Молодые свернули по тропе в гору к монастырским кельям, где в её отсеке, глубокой впадине, подобно каменной долине, располагалась церквушка с золотыми куполами. С того момента, после встречи с Луисом, Эдит оставили на время жить в ските, ей выделили скромное довольствие и келью в самом конце свободной обители, а взамен она обещала рисовать для тех обездоленных, кто искал кров и пищу, кто готовил душу для проникновения в таинства евхаристии.
Розы свободной обители. Служба подходила к своему апогею, звон колоколов, словно разбегающихся, чтобы встретиться снова, сначала маленьких, а потом больших тяжёлых, заострил внимание Эдит. Поняв, что сейчас из храма выйдет владыка, она присела в сторонке, устроив на планшете лист бумаги и сделав несколько набросков штрихов чёрным карандашом. Большая тень внезапно упала от монашеского платья, и художница, вздрогнув, узнала по очертаниям тени того монаха, след которого привлёк её в эту свободную обитель. Тогда Эдит приподнялась, чтобы увидеть лицо владыки, по всем приметам это был он, но людская толпа, хлынувшая из церквушки, оттолкнула её. Однако художнице удалось схватить нечто такое, что позже изменило всю суть. «Так вот он, какой, владыка Амвросий» – мелькнула мысль, рука тотчас потянулась к планшету. К террасе подъехал чёрный лимузин ,и мальчик-служитель пронёс по ковру пять высоких, чистых в листве, тёмно-красных роз с чёрным отливом, распахнул багажник автомобиля и бережно положил цветы, захлопнув крышку. Владыка Амвросий, опираясь на посох, степенно сходил по разбросанному до самой террасы ковру, осеняя крестным знамением страждущих, пришедших в каменную долину не только за пищей, которая всегда была в воскресные дни, но и за исцелением. Эдит удалось всё же мельком схватить черты лица главного монаха, они-то и потрясли её совершенством красоты. Владыка сел в автомобиль и тот, сорвавшись с места, повернул в сторону белокаменной постройки, где находился дом Его Преосвященства. Однако эти цветы, тёмно-красные розы, восхитившие Эдит свежестью, не давали ей покоя. Она вышла по гористой тропе, держа планшет под мышкой, к пирамидальной формы особняку, по разговорам, построенным на досуге владыкой для себя одного. Окно, выходящее в сторону гор, за которыми шумело море, было распахнуто, однако её чуткое ухо не уловило никаких звуков. Тогда Эдит решила прибегнуть к заклинанию, мысленно проговаривая по слогам :- «Н а у м, я т в о я».
Что-то зазвенело в воздухе, следом повеяло ароматом в пространстве, владыка, трапезничая, не выдержал постороннего вмешательства в его размеренную жизнь, и выскочил во дворик в широком платье бордового цвета, подпоясанном чёрным расшитым поясом. Оглядываясь по сторонам ,стал искать предмет, потревоживший его покой, и… всплеснул руками. У распахнутого окна вытянулся куст дивной розы, с глянцевыми листьями, упругими шипами, наверху стебля восседала, как на троне, сама царица, белая роза в полуроспуске с капельками росы. Владыка Амвросий вынул из разреза платья чётки и, перебирая их, ушёл в себя, предавшись молитве. Роза же была так хороша собой, так притягивала своей прелестью, а владыка любил цветы, что он подошёл близко и потрогал лепесток. Убедившись, что роза настоящая, он вынес перочинный ножик и срезал стебель наискось. Обобрал шипы и торжественно внёс белую розу в дом, устроив в стеклянной вазе на подоконнике, чтобы дивный цветок обволакивали ещё и порывы ветров, дующие с моря; вдохнув аромат, прилёг в одежде, да так и уснул на спине, скрестив руки.
В покоях неожиданно раздался шёпот заклинания Наума, лепестки розы рассыпались , вместо цветка на подоконнике оказалась Эдит, она легко спрыгнула на ковёр, раскрыла планшет, вырвала новый лист и сделала пару набросков спящего монаха. После этого Эдит осторожно заглянула в кабинет, убедившись, что в покоях кроме спящего монаха никого нет. На письменном столе, поодаль чудотворной иконы Иверской, особо почитаемой монашествующими людьми, вместе с тлеющей свечою и букетиком лиловых бессмертников в керамической вазочке лежала объёмистая рукопись. Эдит не удержалась и перевернула первую страницу, схватив взглядом на титульном срезе папируса заголовок: «У с л а д а ж и з н и – Ч ё р н ы й Г л а д и о л у с. К н и г а М о н а х а».
– Ох, ты! – прошептала Эдит, – вот чем занимается владыка Амвросий, он пишет книгу, – художница полистала шершавый свиток, исписанный мелким почерком, словно рассыпанным бисером по папирусу, её взгляд упал на ковёр, в уголке, в высоком кувшине восседали те знакомые пять тёмно-красных роз, подаренных ему из церкви. Эдит сорвала несколько лепестков самой раскрытой розы и спрятала в пазуху, вновь вошла в спальню и присела на маленький стульчик; подняла с ковра планшет, разбросала его на коленях и стала рисовать лицо, которое привлекло её при выходе из церкви. Оно было слегка продолговатое, обрамлённое кудрявой бородой с баками и усами над верхней губою, сама бородка отсвечивалась рыжеватым отливом, на высокий лоб упал завиток. Эдит усмехнулась, в ту самую минуту планшет соскользнул на ковёр, художница нагнулась, чтобы поднять его, зашелестев бумагой.
Владыка Амвросий открыл глаза и приподнялся.
– Как ты вошла? – в его приглушённом голосе даже не было ни нотки удивления, – разве я оставил дверь открытой? – он опустил ноги на пол и всунул их в плетёные сандалии, поправил волосы, пригладив их ладонью.
– Какое это имеет теперь значение, – Эдит смутилась, собирая разлетевшую бумагу и запихивая её в планшет, – главное, что я здесь.
Владыка Амвросий вдруг рассмеялся: – ну, а если бы я спал в рубахе, или, ещё лучше, совсем раздетым?
– Разве монах спит раздетым? – спросила Эдит.
Амвросий, окончательно проснувшись, бросил взгляд на подоконник, там лишь стояла пустая ваза: – я так и понял, что с этой белой розой не всё в порядке, слишком она была красива, – тихо сказал владыка, с удивлением разглядывая художницу.
– Да вы не берите в голову, Ваше Преосвященство, – успокоила его Эдит, – это всего-навсего заклинание Наума, оно мне помогает, когда я хочу кого-то нарисовать, но мне же не удается поймать нужный момент, –девушка вздохнула,- человеческое тело для меня просто натура, комок глины, из которой я могу вылепить всё, что угодно, – помедлив, художница добавила, – а в данном случае натура просто восхитительна, грех от неё отказаться и не нарисовать, – она стала рыться в планшете, ища тот лист бумаги, на котором сделала несколько штрихов лица главного монаха свободной обители.
Владыка налил себе из графина воды и выпил с ходу целый стакан, словно его мучила жажда: – потому ты сидишь передо мной с открытой грудью и дразнишь белой розой во впадине?
Эдит смутилась, встряхнула плечами и подобрала грудь под блузу, застегнув её на верхнюю пуговицу.
– Если бог дал мне красивые груди, почему я должна их прятать глубоко под блузу, там же роза Наума, а она любит простор и воздух, иначе завянет, и заклинание не будет действовать, – Эдит попыталась сделать набросок карандашом, но от волнения рука больше не слушалась.
– Как зовут тебя, гостья непрошенная, раз вошла сюда не по-человечески, – спросил Амвросий. Однако в его голосе не было сердитых ноток, он никогда не отталкивал людей, пришедших к нему по неразумению, – мне кажется, что я видел сегодня тебя в церкви на службе? – владыка прикрыл окно, тянуло сквозняком, – в твоих золотых волосах была примула, или я ошибся?
–Я обронила примулу, в душе нельзя носить два цветка, – Эдит усмехнулась, – к тому же, примула обиделась. Я же проговорила заклинание Наума и обернулась белой розой, – девушка коснулась рукава одеяния Амвросия, – только я вошла к вам по любви ,я художница, Эдит, меня готовит Луис к послушанию, как хотела моя мать, – сказала она, пристально взглядываясь в лицо владыки, – к тому же меня оцерквили, один старый батюшка и Луис, – художница приоткрыла планшет, отвернула его внутренний карманчик и достала маленький серебряный крестик, – вот видите, мне подарил его Луис, только нет цепочки.
– Но, это дело поправимое! – усмехнулся Амвросий, – если тебя окрестили в моей церкви, то я найду для тебя кое-что. Владыка прошёл в кабинет, выдвинул верхний ящик письменного стола, достал молитвенник, раскрыл его, – подойди ко мне ближе, – Амвросий разбросал цепочку с инкрустированным крестом, на плоскости которого было изображено распятие, и протянул Эдит.
– Я люблю кресты с распятием Христа, – сказала Эдит, приподняла крестик и поцеловала его, – этого я никогда не забуду, – девушка припала к руке Амвросия, прижавшись щекой.
Владыка сел за стол, – ты рылась в моих вещах? – сурово спросил он.
– Нет, – она смутилась, – я лишь полистала вашу книгу. Она впечатляет, хотя бы потому, что вы пишите на папирусе.
– Ну что мне с тобой делать?! – воскликнул владыка, – он вынул из платья синие чётки, затеребил, Эдит же подошла к кувшину с тёмно-красными розами, понюхав их.
– Как пахнут эти розы, владыка, они так же прекрасны, как и вы, – сказала она, – я искуплю свою вину перед вами.
– Ладно, ты потрясаешь своей наивностью, но учти одно, я подарил тебе крест в изумрудных каменьях ради Э д и.
– Ради Эди? – удивилась Эдит, – однажды, ещё до прихода в вашу свободную обитель, я слышала это имя от Наума, – девушка помедлила, – он сказал мне: если я не сделаю э т о г о, то за меня сделает Эди, но я не придала значения той фразе, потому опустила в своих воспоминаниях детства.
– Ах, так у тебя был утешитель? – усмехнулся Амвросий, – по сути, ты ещё совсем дитя.
– Сущий был пустяк, Ваше Преосвященство, – сказала Эдит, – всего лишь несколько минут, Наум пытался сорвать мой первоцвет, но у него не хватило сил, поэтому он и подарил мне свое заклинание, как на полчаса обернуться розой. Иначе бы мы с вами не встретились, а так, – Эдит развела руками, – промысел божий.
– И то верно, – усмехнулся Амвросий, – у тебя есть, где отдохнуть? Для рисования же, я вижу, ты везде можешь найти место.
– С этим всё в порядке, моя келья самая последняя, – ответила Эдит, – очень маленькая, но в ней много света, слышен прибой Белого моря, что ещё нужно бедной художнице в поисках натуры.
– А довольствие? Ты не голодаешь, я выделил из своего пайка всем, чей путь по воле судьбы будет повернут в нашу обитель, здесь для всех есть приют.
– Я выпиваю по утрам кружку козьего молока с ломтем белого хлеба, – сказала она, – так распорядился Луис.
– Ах, значит, сам Луис взял над тобой покровительство, тогда я спокоен, – усмехнулся владыка, – тогда Эди мы пока отложим на второй план.
– Луис ещё мальчик, – сказала Эдит, – вот он как раз не мешает мне думать, он всегда застёгивает мне блузу на верхнюю пуговицу до самого подбородка, – Эдит отвела петельку и распахнула грудь перед Амвросием, – теперь я хочу, чтобы все видели мой красивый крест, ваш подарок. Розе нужен воздух, иначе она зачахнет без поцелуя ветра, луча солнца, – Эдит засмеялась, – ну, а теперь проясните про Эди. Почему ради Эди, вначале, а потом, Эди можно и на второй план, – и вдруг вскрикнула, – я вспомнила, Наум рассказывал ,- и Эдит повторила слова Наума: «Когда Чистый и Зелёный Четверг хотел отдать ключи от весны Святому Юрию; то на их пути вырос Эди Миляховский, принц Эдвард, и закрыл весну».Потому ещё так холодно повсюду, а с моря дует западный ветер, спасибо Луису, он подбросил одеяло из козьей шерсти, – помедлив, она переспросила, – и что же про Эди?
Владыка Амвросий неожиданно смутился, сложил чётки и спрятал их в верхний ящичек тумбочки рядом с письменным столом. Опустив правую ладонь на рукопись, проговорил: – придёт время и я расскажу тебе про Эди, точнее, принца Эдварда Миляховского… Сейчас же ступай с богом, но если ещё раз воспользуешься тем заклинанием и войдёшь в мои покои, я отвернусь от тебя навеки, правая рука Эдит потеряет волшебный дар рисования, – глухо сказал Амвросий, – запомни, я не злой, но мне это не нравится.
– Я поняла, Ваше Преосвященство, отныне я буду делать то, что нравится вам, не бойтесь, у меня ровный характер, моя мать всегда говорила: «Ты у меня самая спокойная в семье», – художница облегчённо вздохнула, –можно уйти?
– Сделай одолжение, ступай с миром, – и Амвросий кивнул головой, – ещё просьба, не суетись перед Луисом, не выставляй перед ним так открыто свою белую розу, Луис готовится к лучшей доле.
– То есть, вы хотите сказать, что Луис будет со временем монахом? – Эдит засмеялась, – но он такой красивый парень! Что влечёт вас всех в эту бездну?
– П р е д н а ч е р т а н и е, – владыка усмехнулся, – это не выбираешь, это однажды приходит само, – сказал Амвросий, – о н о от нас не зависит.
– Вы пишите об этом в своей рукописи? – Эдит распахнула дверь и вышла на приступок, убранный ковром ручной работы, – я хочу первой прочитать ваши заметки, может, я что-то и нарисую.
– Ты уже и в книгу проникла, – Амвросий покачал головой, – ну что мне с тобой делать, если б не Эди, я тут же выставил тебя из своей обители.
–Луис сказал вы добрый, что однажды вы нашли на пепелище один намоленный камень, который пел псалм, и на том месте построили красивую обитель, церковь для успокоения души, а по ту сторону гор шумит Белое море, но к нему можно попасть через горы лишь в те дни, когда пробуждается красная аурикула…
– Луис преувеличивает, – владыка Амвросий нахмурился, – хотя помогли молитвы, которые шли от камня, Луис прав, камень был намоленным. Я слушал его псалмы и чувствовал, как крепчает правая рука, – и он сжал её в кулак.
– У вас, владыка Амвросий, красивые глаза, – неожиданно сказала Эдит, – когда вы будете в настроении, я присяду подле вас и сделаю несколько набросков, – художница помедлила, – из глубины десницы я слышу шелест дивного цветка, по всей вероятности, такого я ещё не видела, – и она сделала шаг, пытаясь приблизиться к Амвросию, но он выбросил руку ,перекрыв путь.
– Ступай, Эдит, не меряй мое терпение, – владыка, нахмурившись, опустил веки и они словно отяжелели, – с т у п а й!
Эдит переложила планшет под мышку и стала медленно спускаться с террасы и вскоре вышла на горную тропу, обдаваемую розой ветров с моря, чтобы слегка остудить свой пыл, всё же она была довольна собой. Амвросий плотно прикрыл входную дверь с террасы, захлопнул окно в спальне, опустив тяжелую штору. Ощущая себя в полумраке, прошёл в кабинет, припал на колено перед большим крестом с распятием, вылегшим на боковой стене и стал усердно молиться. Входя в экстаз, он перестроил регистр мышления и стал качать кровь, так Амвросий увидел перед собой новый свет, в ореоле лучей которого восседала Богородица; в таком отрешённом состоянии владыка молился около двух часов, лицо его стало бледным, похожим на настоящую свечу из воска. Потом он медленно входил в прежнее состояние, успокаиваясь, и здесь ему помогала музыка. Он включал песнопения, тотчас улыбка обволакивала его лицо, оно розовело, принимая черты входящего в равновесие человека, вновь прилив крови, и прежний ритм дыхания. Амвросий поменял кафтан, освежил рубаху из белой бязи и так долго стоял в раздумье, после взял с верхней этажерки митру и, держа её в правой руке, вышел во двор. Завёл машину, вывел из-под каменного навеса, развернувшись, вдруг резко вырулил автомобиль с места, слегка задев крыльцо и помяв цветник. Вскоре белая пыль поглотила силуэт лимузина. Скоропалительный отъезд владыки заметила лишь одна монахиня Евлампия, готовившая на вечер ему трапезу.
– Интересно, – сказала она самой себе, – кто же смутил нашего Амвросия, – прикрыла блюдо горячего картофеля без мундира, надеясь, что владыка вернется, хотя бы к ужину и её труд не пропадет даром.
- Пастух Антоний. Эдит приблизилась к своей келье, самой последней, почти вплотную с подошвой горы, у входа на камне стояла большая керамическая кружка с тёплым козьим молоком, рядом лежал большой ломоть хлеба; ощутив голод, с ходу выпила молоко, хлеб же спрятала под подушку и снова вышла подышать воздухом. Солнце, словно упав на вершину скалы, медленно скатывалось в сторону моря, которое Эдит ещё не видела, дул влажный воздух, хотя в атмосфере было всё спокойно .Вдали блеяли овцы и Эдит спустилась в долину, охваченную с востока зеленью и посадкою плодовых деревьев, с той же лёгкой руки хозяина свободной обители. Пастух Антоний сгонял рожком разбредшихся овец, хотя стадо было не монастырское, но овец никто никогда не прогонял, они паслись всю весну, на лето, Антоний уводил их ближе к морю, где не было такой жары. Многие из живущих в обители считали пастуха старцем за его седые волосы и несколько сутулую фигуру, хотя ему не было ещё и сорока. Антоний к этому относился спокойно, ну а за то, что его милые овечки паслись по весне в монастырской густой траве, приносил в церковь кружки с парным молоком.
Он был вхожим в покои Амвросия, знал, где владыка держал запасной ключ от прихожки к особняку. По утрам, когда Амвросий обычно уходил на службу, или уезжал за террасу по неотложным делам, пастух Антоний доставал ключ из-под камня у водосточной трубы, открывал им входную дверь и ставил на приступок кувшинчик налитого с краями ещё тёплого молока из-под самой любимой им козы; монахи, зачастую, люди наивные и доверчивые, ведь вся затворническая жизнь проходит в послушании и смирении, в уповании на промысел божий.
– Ну что, барышня, подкрепилась? – спросил Антоний, увидев художницу, идущую ему навстречу.
– Вкусное молоко, сладкое, – она протянула пастуху кружку, – только не надо так за мной тащиться, – сказала Эдит.
– А что, можно и потащиться, ты же не монашка?! – усмехнулся Антоний и коснулся руки Эдит, – присядь со мной, а я поиграю на флейте, пока не соберутся мои козочки, – Антоний окинул её высокую белую грудь, – за одну ночь с тобой я подарю тебе три овцы, самые расхорошие, молочные.
Эдит расхохоталась: – и что я буду с ними делать?
– Хороший вопрос, – Антоний слегка обнял её за плечи, – отдашь монашкам, там есть одна, с и н е г л а з а я, без возраста, та, что ноги моет владыке, – и он вздохнул, – вот бы мне такую жизнь.
– Ах, эта же Евлампия, она не ноги моет, а сменяет воду в тазике, – засмеялась Эдит, – да она такая вся благоверная, все ночи проводит в молитве, я даже не знаю, когда она спит, бедняжка.
– Значит, Евлампия своими молитвами мешает твоему ангельскому сну? – Антоний склонил голову и вдохнул запах белой розы Эдит, поцеловав крест во впадине, – какой дорогой и красивый крест, – с ним опасно ходить, милка! – он крепко обнял Эдит, – перебирайся в мою хату.
Эдит неожиданно оттолкнула пастуха: – всё можно, но только не лезь ко мне своими губами, они такие скользкие, целуй своих овец!
Антоний не обиделся, – я ребром ладони срубаю головы овец, во как! – и он показал ей натруженную руку, – это не то что беленькие холёные ручки у главного е в н у х а, – и он с ехидцей расхохотался! – а молочко козье он любит! Бадейку всегда выставляет за порог.
– Оставь монаха в покое, пусть он молится за нас, – сказала Эдит, – достань мне фляжку с белым вином, домашним, мне нужно для дела.
Антоний усмехнулся, хотя, нисколько не обиженный холодным отношением к нему юной красавицы.
– Ладно, я принесу тебе фляжку с самым расхорошим вином, которое пьют только попы, ну а что ты дашь мне взамен? – и он снова попытался обнять Эдит.
– Да что хочешь! – она засмеялась, – только у меня нет ничего такого особого, ни денег, ни кола ни двора. Есть только планшет с красками пастельными и черными карандашами, штриховыми для работы, она улыбнулась, – я могу нарисовать портрет, хотя в твоем лице нет того, за чтобы я могла зацепиться. Как, например, у владыки Амвросия, или даже, на худой конец, лицо Луиса. Ты, как старец, согбенный, липкий, с запашком, вдобавок!
– Ладно, я не гордый, – усмехнулся Антоний, – могу и подождать, рисуй монахов, а мне подари поцелуй, от тебя это не убудет, а я успокою душу, дай мне свою ручку, – Антоний взял запястье Эдит и стал по тыльной стороне ладони водить большим пальцем.
– Ой, щекотно! – Эдит засмеялась, – я сомлею сейчас и упущу свое дело.
– С тобой согласен, дело, прежде всего, –Антоний достал из кармана флейту, – сейчас соберу овечек, отгоню их домой и принесу тебе фляжку с домашним вином, а ты приляг, солнце уходит и оставляет на ночь для объятий теплую монастырскую траву.
Антоний поднялся с травы и заиграл на флейте, пошел по тропе в горы, овцы тотчас потянулись за ним, одна за другой. Эдит упала на спину, смотря вслед Антонию и овцам, потом вдруг вскочила, открыла планшет, сорвала лист бумаги и стала рисовать. За этим занятием и застал её вновь пастух, вернувшийся к художнице с фляжкой, поставил у планшета и заглянул в рисунок.
– Ну, милка, – засмеялся пастух, – вот уж не думал, что мои овечки попадут под штрих художницы, ты просто гений, девочка, – и он вновь обнял Эдит за плечи, – так бы и дышал рядом с тобой вечность, – Антоний вдруг весь задрожал от нахлынувшей страсти.
– Ну что ты трясёшься, – сказала Эдит сердито, – твоя рука грубая, мозолистая, ты исцарапал все плечи, – и девушка сбросила его руку со спины.
– Я ж пастух, а не Его Преосвященство, у того ручки чистые, ногти с розовым маникюром, книги пишет и Евлампия следит за ним, а я овец пасу, супруженция моя (перекрестился) как два года назад преставилась, оставив меня одного маяться по белому свету.
– Ну, захныкал, – сказала Эдит, – спасибо за фляжку с вином, – она развернулась к Антонию лицом ,приблизившись, – вынь из-за пазухи пять розовых лепестков. Я их сорвала в покоях владыки, брось во фляжку с вином.
– Ну и испытание ты мне даешь, дорогая, – пастух склонил лицо в раскрытую грудь художницы, – я вижу только белую розу, милая девочка, там нет лепестков чужой розы, – и пастух стал целовать её грудь.
– О, боже, – воскликнула Эдит, – от тебя такой запах, Антоний, ты своим навозом загубишь мою белую розу, – и Эдит распахнула блузу до самой талии.
– Какая вся мраморная, будто изваяние, – Антоний прижал к себе Эдит, стал ласкаться, – вот те пять лепестков, они прилипли к телу, – он снял пять тёмно-красных лепестков, открыл фляжку, бросил их во внутрь и завинтил пробкой.
Эдит встряхнула грудь, прикрыла ворот и отвела руку Антония, – ну всё, пастух, кино кончилось, застегни мне блузу на вторую пуговицу, лишь оставь просвет для дыхания белой розы.
– Ну, так мало, Эдит, – сказал он, – я только распалился, а ты вдруг смутила бутон розы, – и он снова попытался приласкать Эдит.
Художница поднялась с земли, глубоко вздохнув, в её глазах вспыхнули весёлые огоньки.
– Отряхни, пастух, меня, – сказала она властно, – сними соринки, не приведи господь, чтобы монашки подумали, что я валялась с тобой, как простая девка.
– Разве я такой урод, слаб, что ли мой огонь? – он стал счищать с Эдит траву, целуя ступни её ног, – а какие ноженьки, классические, как у богини.
Эдит смеялась, – не делай мне щекотки, – и она одёрнула юбку, – а вот за вино спасибо.
– Зачем вино тебе? Когда тело молодое, можно и без вина разогреться, – сказал Антоний, пытаясь подобраться к святая святых беспечной художницы.
–Только об одном, милый пастух, прошу, – она пыталась отстраниться, однако тот был слишком настойчив, –не разглашай уговор. Я же заговорю вино, и дам испить одному важному человеку. Это будет мой эксперимент. Меня научила мать – в белое вино надо бросить пять лепестков от красной розы и дать настояться любовному напитку, друг мой ситцевый.
– Эдит такая прекрасная, создана для любви, – Антоний принялся заплетать девичьи, разбросанные по плечам, волосы в косу, – с монахами не связывайся, они тебя в котлету со смолой изжарят, и твоя белая роза пожухнет и станет чёрной, а потом превратиться в пепел.
– Что ты мелешь чепуху! – она отбилась от пастуха планшетом, – монахи самые добропорядочные люди, на них можно воду возить.
– Это когда их не трогаешь, – пастух слегка наступил на ножку художницы, – пошли со мной, я ведь тоже почти как монах, два года живу один,нецелованый...
– Ты слишком прост для восприятия души, – Эдит дернула его за щёку, – не обижайся, пастушок, но мне нравится открывать неизвестные штрихи. Ты испытал такое наслаждение, как переключение регистра воображения? – она вдруг засмеялась, – когда я рисую, я вхожу в образ так, что сливаюсь с его сутью. Вот главное! – Эдит помахала рукой пастуху, – прощай, спасибо за козье молоко и фляжку с белым вином!
Вскоре девушка скрылась в тумане, плотной стеной ,идущим с моря, Антоний вздохнул, выпрямился и направился в гору через монастырский луг домой в ту деревеньку, которая вылегла в аккурат рядом с новой свободной обителью. В пути он оглянулся, возможно, почудился надрывный детский плач. Прошли годы, казалось, затянулись раны, заросли тропы боли, однако мерзкое чувство не покидало его, а, наоборот, усугублялось с годами, выворачивало душу, особенно ,по праздникам, когда звонили колокола белокаменной церквушки, построенной словно в назидание ему за грехи. Пастух обогнул деревеньку, раскинувшуюся над самым морем, в горах, ещё издали было слышно, как в загоне блеяли его овцы, он подсыпал им свежего молодого сена, в дом лишь не вошёл, а прилёг на топчан рядом с загоном, вдыхая морской воздух.
- В ту ночь, когда его жена Клавдия переступала одной ногой порог другого мира, она родила ему младенца, но он вышел из утробы матери уродцем, с заячьей губой, скрученными ножками и ручками, живой комок боли и слёз. И в ту же тёмную ночь, когда беспробудно лил грозовой дождь, случилось три события… На прогулку в ливень вышел Кентавр, чтобы собрать букет васильков; следом молния полыхнула , попав пламенем в ветхие церковные постройки, от всего имущества древности чудом остался один белый, яйцевидной формы камень с глянцевой поверхностью; языки пламени, пробежавшись, не тронули его, лишь подточили края, изнутри же камень весь сверкал и вроде бы пел, словно оттуда неслась молитва. И в ту же беззвёздную ночь молодой пастух вынес сверток, от куда несся душераздирающий крик ,и во мгле стал искать место ,чтобы спрятать его, именно этот странный камень на пепелище привлёк внимание молодого Антония. Он украдкой разгрёб пепел и опустил в ямку свёрток с уродцем у певчего камня. В складку пелёнки Антоний положил цветок земли, василёк, вместе с запиской «п р и н ц Э д в а р д М и л я х о в с к и й». И нацарапал на камне слова:
«Да прости, господи, жену, в чреве её блуждал ядовитый цветок, который обернулся чёрным младенцем, и пусть он идет за ней, в тот мир, куда отправилась и она».
- В ту тёмную, дождливую с грозой и молнией, ночь запах василька привлёк внимание Кентавра, а он из всех цветов предпочитал василёк за его цвет небесной лазури. Неопознанный ступал босыми ногами по тлеющим ещё угольям, размышляя о том, что, как водится у людей, вся вина падёт на его плечи, хотя ветхий скит сгорел от тлеющей свечи, которую забыла притушить одна монахиня, спешившая по своим делам в ту ночь без звёзд и луны. Кентавр, покачав головой, припал на колено, развернул свёрток и вздрогнул.., даже он был потрясён содеянным, размяв ладонь, большим пальцем провел по груди, младенец тотчас утих.
– Ну вот, Эди, я продолжу твою горемычную жизнь, взяв лишь василёк, – и Неопознанный, понюхав полевой цветок, оставил на груди младенца знак, свою печать, – я направлю одного добропорядочного монаха, – он усмехнулся, –уж я-то их всех знаю, – и растворился в воздухе.
После греховного поступка Антоний скрылся на время, оставив наследство от жены, стадо овечек, под присмотром соседей. Погуляв по свету, не найдя более себе нигде пристанища, родные места так и тянули к себе, а может грех не давал ему покоя расслабиться, он вернулся домой, ибо и жену свою он не похоронил по христиански, на людях, а обернул тело мешковиной и, дождавшись прибоя, пустил под пенистые волны.
Каково же было его удивление, на месте сгоревшего деревянного скита со всеми постройками, возвышалась белокаменная обитель с террасами, уходящими в горы к Белому морю. Долина, промеж каменистой поверхности, утопала в цветах и луговой траве, здесь давали приют всем, кто сворачивал на тропу к морю, искал благодать в молитвах, свежем воздухе и духовной пище.
Походив и подслушав разные доводы, он понял лишь одно, что нигде и никто не обмолвился словом о младенце–уродце, брошенном на пепелище. Так Антоний остался при своем доме, а тут ещё в скором времени в долине появилась девчонка, беспечная Эдит, которая вскружила ему голову, и он стал вынашивать план, как заполучить Эдит, ему хотелось иметь здорового и красивого ребёнка. Согласен был и на тот случай, чтобы девчонка прижила от него дитя, а потом подарила ему и пусть катится на все четыре стороны с планшетом в поисках другой натуры. Улыбаясь, вспоминая белую розу Эдит,
вместе с овцами уснул пастух Антоний.
Эксперимент Эдит. Три дня и три ночи Эдит настаивала в белом вине пять лепестков от тёмно-красных роз, сорванных в покоях Амвросия, читая на сон грядущий те молитвы, которые помнила от матери, заговаривая напиток.
После воскресной службы, под навесом раскидистой айвы, посаженной в долине сразу после пожарища молодым тогда ещё архиереем Амвросием, был раздвинут большой стол для общей трапезы. Худо ли бедно, но в обители всегда было что поесть, да ещё и оставалось для страждущих, которых занёс попутный ветер в поисках крова и пищи.
Сюда возили больных детей подышать морским воздухом и запахом первоцвета весны, но были и те, блаженные, исцеляющие души тем светом, который исходил от главного монаха обители, владыки Амвросия, окружённого ореолом загадочности и большой святости во всех его поступках. По слухам, не только ему посылает Покров Пресвятая Богородица, но и Неопознанный--Кентавр благоволит к нему, разбрасывая на пути следования владыки полевой цветок – синецветку.
Эдит вместе со всеми присела на край лавки, убранной ковриками, пододвинув к себе два бокала. Ждали лишь Амвросия, оставив ему почётное место в центре. Он любил, порою, посидеть со всеми, подпевая в такт своих прихожан собравшихся на праздник. У Амвросия был красивый голос, и слушать его Эдит доставляло большое наслаждение.
Вскоре появился и владыка, переодевшись в чёрное платье, поверху был ещё наброшен кафтан, подпоясанный расшитым кушаком. Здесь подавали по воскресеньям рыбу с белым вином, печёные луковицы первоцветов, которые были не только сладкой пищей на десерт, но и богатой витаминами. Эдит украдкой открыла фляжку, с тем вином, настоянном на пяти лепестках тёмно-красной розы и приобретшем розоватый оттенок. Вылила содержимое в бокал и, встав, пронесла к месту, где сидел владыка Амвросий. В шуме и сутолоке воскресной трапезы это действо Эдит никому не бросилось в глаза.
– Отчего белое вино стало розовым? – неожиданно всполошился Амвросий, поднеся бокал к губам:– у него странный привкус и аромат, я не люблю вино с запахом розы, – и владыка отодвинул бокал.
Монахиня Евлампия, сидевшая поодаль от него, смутилась, пытаясь передать Амвросию другой прибор, но её опередил Луис. Он пододвинул владыке свой, а сам взялся пригубить бокал с красным вином.
– Странное вино, – удивился он, – но приятное, я, наоборот, люблю в вине запах розы, – и он выпил до дна, причмокнув губами, – вроде как бы вино десертное, только слегка ударяет в голову.
– Так отчего же один бокал оказался с розовым вином? – переспросил Амвросий, – и почему он был поставлен к моему блюду, а, Евлампия?
Та лишь, смутившись, опустила голову ещё ниже. Воцарилось молчание, однако это не помешало аппетиту вкушать фаршированных судачков, лишь Евлампия, вытянувшись и приняв вину на свой счет за недосмотр, толкнула Эдит под локоть.
– Может, Ваше Преосвященство, белое вино покраснело от смущения, – вставила Эдит, отмахнувшись от монахини.
Амвросий засмеялся и отпил из бокала Луиса белого: – оставь, Евлампия, девушку в покое, раз сама не доглядела.
Евлампия вобрала голову в плечи, отодвинув от себя блюдо с нафаршированной ей самой рыбой, обиду приходилось сносить молча.
– Бокал хмельной, – сказал Луис, – может, владыка, вас хотели заговорить, подсыпали отраву?
– Но ты же живёхонек! – Амвросий засмеялся, за ним все следом, – кому нужен монах, да ещё наместник-целебат!
-Владыка, раз вы нецелованый, так кто-то захочет нарушить ваш обет и поцеловать, -сказал Луис.
Это внесло оживление и весь народ, почивавший на хлебах владыки, стал твердить хором, что он молодой, красивый, вездесущий и дай бог ему здоровья, терпения на благо всех обитателей. Однако самый старый монах, охранник владений, седой как лунь и сметливый, внёс ещё большее оживление, сказавши:
– А не было ли в том бокале подвоха?
– На что намекаешь, отец Никодим? – спросил Амвросий, смеясь.
Владыка был в хорошем расположении духа после воскресной службы, а бокал с вином, пахнущий розами, ещё более сыграл на настроение Его Преосвященства.
– Сдаётся мне, что Евлампия заговорила ваш бокал с белым вином, и оно покраснело от её хитрости, – ехидничал о. Никодим.
Евлампия, не выдержав, вскочила из-за стола и выбежала на террасу.
– Ну вот, обидел нашу кухарку, – сказал Луис, – я же выпил тот бокал с ходу до дна, вино так жжёт, всего выворачивает, хоть караул кричи!
– Может, красного перца туда кто-то по неведению подсыпал, чтобы устроить всем сладкую жизнь, – сказал владыка, – лишь уходя, не оставляйте нигде без присмотра зажжённой свечи, второй раз построить обитель у меня не хватит сил, я уже постарел для подвигов церковных. Амвросий приподнялся из-за стола, – зря, отец Никодим, обидел Евлампию, она всех нас обхаживает, как сестра, – с этими словами Амвросий, осенив крестным знамением сидящих за трапезой, покинул церковный двор, сел в машину и повёл к дому. После ухода Амвросия разговор сам по себе вновь вошёл в старое русло, всех удивил бокал с розовым вином, когда подавали одно белое.
– Заговоренное вино было густое, плотное, хоть режь ножом, – добавил Луис, – пахнет розами, – повторил, разыскивая глазами Эдит. Мелькнула лишь тень вдоль террасы, он отодвинул бокал, поднявшись из-за стола, и метнулся в сторону тени, которая увлекла его вглубь каменного выступа.
Перед ним тотчас вырос куст высокой белой розы. Это было, по меньшей мере, так странно меж камней видеть божественный цветок, что Луис перекрестился. День уже клонился к вечеру, с побережья дул ровный ветер, освежая лицо. Юноша присел и задремал в тени ароматного куста. Послышался шум, возможно, с горы сорвался камень и покатился вниз, разметая травы, осмелившиеся пробиться сквозь толщу вулканической горной породы.
Луис открыл глаза и увидел улыбающую Эдит; она склонилась над ним, белые груди касались его лица.
– О, Эдит, – протянул Луис, приходя в себя, – где я?
– Вблизи обители, – девушка рассмеялась, – не бойся, мальчик, я вхожу в твое пространство, – и она стала снимать с него одежды.
– Ты с ума сошла! – воскликнул он, пытаясь подняться, – не искушай меня.
– Какое красивое тело, – засмеялась она, – лишь спрятано под чёрным кафтаном, – не шевелись, лежи в такой позе, раскрытый, спящий, податливый, как воск, я же нарисую твой нежный бутон. – Эдит разбросала планшет на камнях, – я нарисую дикий бутон Луиса в нежных пастельных тонах.
Луис попытался снова подняться, но властная рука Эдит остановила его.
– Не шевелись, ты мешаешь мне переключить регистр мышления, – художница, сделав несколько штрихов, залюбовалась сильным молодым телом Луиса, который как-то обмяк и стал покорен. Она отложила карандаш и прильнула к Луису. С горы снова послышался посторонний шум, Эдит бросила взгляд вверх и увидела, как на тропу к ним выходит Евлампия.
– О, Луис, какой ты душистый, но эта бабка, монашка, она всегда мешает мне насладиться натурой, – Эдит набросила одежду на парня, застегнула блузу и уселась на камень, продолжая рисовать.
Луис приподнялся, запахнул на себе кафтан, пригладил бороду.
– Ты покажешь мне рисунок? – спросил он, усмехаясь.
– Я подарю без слов, когда пойму, что он готов, – Эдит, не отрываясь, продолжала рисовать, – с условием, если дашь мне пару сеансов, чтобы дикий бутон Луиса был в точности похож на себя, а не на другого.
– А где же куст белой розы? – удивился Луис, – я задремал в тени божественного цветка.
– Это бутафория, мальчик, – сказала Эдит, – я спрятала белую розу глубоко в пазуху. Как-нибудь мы уйдем к морю, и я откроюсь перед тобой, – она поменяла карандаши, – ну, а сейчас ступай домой, с горы спускается Евлампия с кувшином, не дай бог донесёт на тебя Его Преосвященству. Ступай, я прикрою своей тенью твой уход, – и Эдит развернулась спиной к Луису.
Тот покорно поднялся, отряхнул с себя пыль и пошёл в сторону террасы.
– С кем ты развлекалась? – спросила Евлампия, заметив у горного выступа рисовавшую Эдит, – что за монах был с тобой, я схватила глазом только его спину, – она сняла с плеча кувшин, полный морской воды, чтобы перевести дух.
Эдит молча рисовала, не обращая внимания на приставания монахини.
– Может, это ты, красотка, невесть откуда приблудившаяся, подменила владыке бокал с белым вином?
– А ты девственница, Евлампия? – оторвавшись от рисования, неожиданно спросила Эдит, таким образом, уйдя от ответа на не менее коварный вопрос монахини.
– Смотри, дьявол войдёт в твою душу, – крикнула Евлампия, – отнимет руку, не будешь рисовать с натуры.
– Какой дьявол, Евлампия, в кельях монахов компьютеры и ксероксы, мобильные и прочие новшества, на Благовещение служители разговляются красной икрой, а тебе ананас и на Пасху не достается, – Эдит засмеялась, – сбрось свои юбки, подруга, я нарисую тебя с натуры, это мой конёк!
– Я скажу владыке, чтобы тебя убрали с нашей свободной земли, – монахиня нахмурилась.
– Ой, ой! – протянула Эдит, – тогда и я донесу на тебя, за что можешь лишиться всех почестей в обители.
– Это о чём? – удивилась Евлампия, сильнее натянув на лоб чёрный платок.
– Кто из вас без греха, первый пусть бросит камень в неё, разве не так сказал Иисус? – Эдит ликовала внутри от того, что задела всегда уравновешенную монахиню.
– Я ничего предосудительного не делаю, – твердо сказала Евлампия, этому меня обязывает с т а т у с.
Эдит оторвалась от сюжета и рассмеялась: – пусть сегодня веселятся горы и море, они не дадут мне соврать, когда ты моешь ноги владыке, то так низко сгибаешься, словно пытаешься заглянуть ему под подол, а он же, бедняга, занят высокими мыслями о своей книге, или заботой о страждущих обители. Я же в долгу не останусь и Амвросию скажу, какая Евлампия нахалюга!
Монахиня, смутившись, вдруг вместо того, чтобы поругать Эдит, смиренно сказала: – о, Эдит, я такая грешная, но когда я меняю тазик с морской водой, в котором Амвросий моет ноги, то склоняюсь до пояса… Снизу от кафтана веет таким ароматом, он притягивает подобно магниту, – монахиня перекрестилась, – о, силы небесные, почто вводите душу в искушение на каждом шагу!
– Да ладно тебе, сестра, – Эдит, удивлённая переменой настроения монахини, рассмеялась, – владыка уже не так молод, к тому же, он перестраивает регистр мышления на рукопись, это я поняла по его отрешённому взгляду, он блуждает, подобно звезде.
– Его глаза прекрасны, – тихо сказала Евлампия.
– Ты, похоже, сестра, влюблена в Амвросия? – спросила Эдит, – я от Луиса узнала, что глазное дно владыки-- это поле для неземного цвета, Чёрного Гладиолуса, потому неудивительно, что ты не смотришь в очи, а пытаешься заглянуть под подол монашеской рясы.
– Я слепну, когда пытаюсь поймать его взгляд, – тихо сказала Евлампия, – может, в глазах приоткрывается чаша цветка, а корень растёт из души. Лишь когда я омываю ноги Амвросия морской водой, я погружаюсь в этот запах и меня тянет развернуть платье к свету, ведь обычно морской моцион владыка проводит под вечер.
– А я бы на твоём месте спросила о тайном Чёрном Гладиолусе, как он попал к нему ,слышит ли он сам шелест?
– Не гневи бога, – замахала на Эдит монахиня, – Амвросий тотчас отлучит меня, а я умру без общения с ним, в его Чёрном Гладиолусе столько чар, я растворяюсь в них.
– Так что же ты молчала! – воскликнула Эдит, – я вижу, ты по уши влюблена в Амвросия, постоянно сгибаешь перед ним спину, чтобы получить благословение. Я считаю, по жизни хватит, чтобы тебя один раз осенили крестным знамением, если оно послано правильно.
Евлампия вздохнула, приподняла кувшин с морской водой и поставила его на правое плечо.
– И не боишься ходить через горы к морю? – удивилась Эдит, – значит, так велика твоя любовь, – она погладила монахиню по одежде, – будь уверена, сестра, я не выдам тебя Амвросию, на первых порах мне хватит и Луиса, а там.., – художница засмеялась, – будет день, будет и пища.
На этом они расстались. Монахиня свернула к постройкам обители, а Эдит вновь задержалась взглядом на рисунке, потом бережно сложила его в планшет вместе с карандашами, сказав вслух:
– Ах, Луис, какой ты душистый! Я всё равно доберусь до твоего дикого бутона, – с этой мыслью Эдит отправилась в свою келью, где снова на каменном приступке её ждала кружка с парным козьим молоком. Вначале Эдит считала, что о ней заботится Луис, но потом поняла, что печётся как раз д р у г о й, и это развеселило девушку ещё больше.
- Принц Эди. Прервав трапезу, возможно, растревоженный глотком заговорённого вина в бокале, Амвросий завёл автомобиль под каменный навес, постоял на тропе, ведущей от дома. Обвеваемый морским ветром, он стал готовить себя к перестройке регистра мышления, надеясь в послеобеденной тиши после молитвы заняться рукописью. Старец Никодим, однако, успел опередить окольным путём, и к его приезду уже раскатать по ступеням к порогу ковёр в сотканных красных розах. Еле заметная улыбка охватила жёсткие губы Амвросия и он, легко вбежав по ступеням, возле самой двери вдруг попросил у Никодима воды.
Монах спустился в погреб и вынес вскоре оттуда сосуд из тыквы, и суетливо налил в кружку ключевой горной воды, подал владыке, тот, присев на верхней ступени и прислонившись спиною к стене, с ходу выпил и попросил ещё.
– То ли рыба жирная и плотная, то ли гроза надвигается на долину, парит в воздухе, – владыка ослабил ворот кафтана поверх чёрного платья, – ступай, отец Никодим, на сегодня ты мне не нужен.
Тот, слегка преклонив колено и, касаясь, поцелуем края монашеской одежды, молча, с облегчением удалился, как и не было даже его тени.
Надвигалась гроза, она слышалась издали, с вершин гор, следом небо прорезывали слабые змейки молний, но дождя пока не было. Амвросий любил эту предгрозовую погоду, которая позволяла ему уйти в свои мысли, или же погрузиться в приятные воспоминания. Переключая регистр мышления, и собираясь с мыслями войти в сюжет рукописи, он вдруг увидел перед собой лицо Марии, красивой брюнетки с чёрными бархатистыми глазами, косой до пояса. Амвросий улыбнулся, не понимая ещё, почему на память пришло лицо Марии. Он видел её всего один раз, да и то при зажжённых в канделябрах свечах, но запомнил до мелочей, возможно потому, что тогда он был молод и ощущение женской красоты, обаяния, внутренней силы, веявшей от внешнего облика Марии, застало его тогда как бы врасплох. Ему вспоминалось…
- В то памятное раннее утро Амвросий свернул автомобиль на место сгоревшего старого скита с его ветхими деревянными постройками. Ему встретился лишь блуждающий монах Никодим, которого позже он возьмёт к себе в охранники, присматривать за домом, помогать по хозяйству. Само же место вокруг пепелища было красивым, зажатое как бы в полукольце скалистых белых гор и напоминало долину. Вблизи слышался шум морского прибоя, из-за сильных притоков холодного течения Белое море казалось почти безлюдным и притягивало одно монашество своей отрешённостью. Молодой архиерей, удивлённый странным обстоятельством, обошёл пепелище, ища каких-либо признаков, проливающих свет на пожар, но ничего особенного не заметил, уже было хотел садиться в автомобиль, как вдруг его ухо уловило ,то ли писк птенца, то ли плач, который порой вырывался наружу, а порой пропадал. Он перешагнул через обгоревший сруб и… вздрогнул, плач перекрыла молитва, Амвросий разгрёб пепел и увидел камень яйцевидной формы, глянцевой поверхности, от него шла молитва, рядом была рогожа, из которой шёл писк. Амвросий перекрестился, присел, развернул свёрток и… ужаснулся, увидев посиневшего, скрюченного младенца-уродца, на его груди сверкал знак – подобие василька.
– Матерь Божия! – он всплеснул руками, – печать Кентавра, – он привстал, обернулся и позвал монаха Никодима, – здесь ребёнок, отец Никодим! Умирающий уродец, отмеченный печатью Кентавра.
Монах прибежал, припал на колени, стал молиться, – ребёнок ещё дышит, –о. Никодим пошарил в складках рогожи и неожиданно нащупал записку, с трудом разобрав в корявом почерке: «п р и н ц Э д в а р д М и л я х о в с к и й!»
–Вот так п р и н ц-, удивился Амвросий,- в ските были дети?.
– Насколько я знаю, не было никаких детей, – он пожал плечами, тяжело вздохнув, – придётся похоронить его здесь по-христиански, вот и камень псалом поёт, у которого он брошен паскудой, а не человеком.
– Нет, постой, – Амвросий тоже присел, разбросав по пепелищу полы одежды, вслушался: – «О т ч е н а ш.., ты слышишь, отец Никодим, из камня доносится «О т ч е н а ш»! Выходит, мы нашли младенца у намоленного камня и тот просит спасти дитя, что же делать, куда вести младенца? – Амвросий выпрямился во весь рост, – повсюду только горы, море и ни души, здесь отшельники–монахи знали, где выбирать место.
– Ваше Преосвященство, на груди младенца знак синего василька, печать Кентавра! – старец ужаснулся, прикрыв рогожей уродца, – нам не осилить путь спасения, тень греха будет идти следом, – и старец, перекрестившись, оглянулся по сторонам.
– Может, Неопознанный проверяет наши души, какие мы христиане. Оставим ли умирающего младенца или молитвами воскресим его суть? – Амвросий покачал головой, бережно убаюкивая дитя, тот вдруг притих. – Синецветку любит Кентавр, получеловек полулошадь, он залечил рану соком василька. Ибо знает, что предвещает этот знак, ведь синий василёк называют цветком Кентавра, – архиерей внимательно посмотрел в лицо старца, – так или иначе, но я не могу бросить новорожденного на пепелище. Я ехал по делу совсем в другую сторону, но потом вдруг свернул на горную тропу, полюбоваться морем, словно кто-то властно повел мою руку, – он вздохнул, – час от часу не легче, но надо спасти младенца.
– По ту сторону гор живёт Мария, –промолвил старец, – ей подвластны 101 способ спасения, если хотя бы один шанс теплится в человеческом организме, только Мария католичка, и она живёт вдоль полосы «Дорога жизни».
– Какое это имеет значение, она же христианка! – Амвросий подхватил рогожу с младенцем и понёс в машину, – я видел эту дорогу, когда объезжал горы, вдоль той полосы цветут кактусы, листья которых похожи на крест, по всей вероятности оттого и название «Дорога жизни».
Амвросий сел за руль, и уже на ходу крикнул о. Никодиму: – а ты молись здесь, у этого камня, которого не берет даже огонь, молись, пока солнце не спрячется за горы, тогда зажги свечу и молись до моего приезда, – с этими словами архиерей развернул автомобиль на полосу, ведущую к «Дороге жизни».
На плоскогорье упали сумерки, тонкий месяц, охваченный бирюзовым всполохом заката, освещал нелёгкий путь Амвросия. Было такое ощущение, что спешил он напрасно, как ни тщетна молитва седого инока, повстречавшегося ему на пепелище сгоревшего скита. Широкая тропа в крутых каменьях шла покатом, и владыка чуть было не сорвался в пропасть шумящего моря, однако ему удалось вывернуть руль, машина лишь накренилась, но вскоре выровнялась. Амвросий, вздохнув, затормозил. Тропа сужалась, остановив автомобиль, двумя руками аккуратно надел на голову митру, вышел, держа младенца у груди, под каждым соцветием располагалось четыре глянцевых листка, подобно кресту переплетенных, похоже перед архиереем вылег незнакомый крестный путь, предсказанный ему на испытание. Так он понял, что перед ним «Дорога жизни». Вдали виднелось поместье, обнесенное высоким забором, что удивило Амвросия – ворота, несмотря на поздний час, были приоткрыты, он с волнением ступил во двор, навстречу ему вышла молодая женщина.
– Я давненько увидела твой автомобиль, – она усмехнулась, – ты слегка сбился с пути и потому чуть не опрокинулся вместе с машиной, – но… справился, это божий знак, или к тебе благоволит Кентавр, этой весной столько васильков повсюду!
Амвросий, усмехаясь, кивнул головой, однако в горле запершило при виде женщины – так она была прекрасна.
– Если ты Мария, – с трудом выдавил он слова, – если ты та Мария, о которой рассказывал инок Никодим, тот обездоленный монах, скит которого сгорел, – он повторил с нажимом, – если ты, так помоги мне.
– Да, я та Мария, и мы все видели пламя пожарища. В тот черный вечер впервые в истории родословной замка закрыли ворота, – она взяла из рук Амвросия младенца, – в такой поздний час все приходят только с больными детьми, – Мария развернула рогожу и… вздрогнула, тут же прикрыв тельце убогого, – о боже, на ком же грех? Да ещё знак синего василька?
– Это не мой ребёнок, – глухо сказал Амвросий, – я монах, – он развёл руками.
– Я понимаю, ты не простой монах, – она вздохнула, – но раз прижал к сердцу дитя, даже чужое, значит, оно уже твоё, – сказала она.
– Я нашёл младенца на месте того сгоревшего скита, его пульс в ту минуту ещё теплился, – ответил Амвросий, – если можешь вернуть дитя к жизни, я заплачу тебе, Мария, сколько пожелаешь.
– Монах так богат? – усмехнулась она, удержав его руку, пытавшую открыть кошелёк, – разве монахи носят с собой деньги? Она, развернув рогожу, взяла из рук архиерея младенца, – ты пришёл ко мне с митрой, своим истинным лицом, и я попытаюсь помочь тебе, хотя гарантий ни в медицине, ни в любви нет, – Мария выбросила вперед руку, приглашая Амвросия войти в покои замка. Навстречу ему шагнул малец, и архиерей дал поцеловать ему свой крест. Амвросий присел на длинную лавку, убранную домотканным ковриком, снял митру и переложил с правой руки на колено, прислонился спиной к стене, прикрыв тяжёлые веки. Негаданная поездка утомила так, что он даже не мог переключить регистр мышления, чтобы уйти в свои мысли и не думать о странном существе. Услышав шорох платья рядом, он вздрогнул, открыл глаза, Мария коснулась митры и улыбнулась, глянув так пристально в его глаза, что притих в глубине очей Амвросия Чёрный Гладиолус, сомкнулись его верхние чаши в бутоны, наступили мгновения звонче самой тишины.
– Амвросий, – тихо сказала Мария, – если я не вдохну жизнь в этого уродца с печатью синего василька и не вытравлю этот знак с груди, – она покачала головой, склонясь так низко, что он почувствовал на своих губах её дыхание, – то все знания, дарованные мне свыше, будут напрасными…Мне лишь нужен твой поцелуй и больше я никогда от тебя не попрошу ничего. Поцелуй, который мог бы подпитать биотоками мои знания, вкус его я передам, когда почувствую пульс младенца, Э д и, ты станешь его крестным отцом..
Несколько мгновений Амвросий молчал, потом левой рукой передвинул митру с колена на лавку, а правой слегка отвернул ворот платья Марии, нащупал ее нательный крест и коснулся поцелуем распятия. . Мария улыбнулась, проведя ладонью по одежде архиерея, и спешно удалилась. Амвросий вынул из разреза кафтана чётки и затеребил их, подумав, если Эди воскреснет, то он построит на том месте, у намоленного камня, свою обитель, приют для страждущих, больных, особый монастырь, для всех, кто жаждет исцеления.
Двери были приоткрыты, на него повеял специфический запах, то ли лекарства, то ли цветка, Амвросий сразу не мог определить, внезапно раздался крик, монах вздрогнул и подался вперёд, нет сомненья, что плакал младенец. Вскоре вышла Мария, при слабом освещении прихожей не видна была её бледность, но выдавал голос, он дрожал… от радости.
– Я думаю, что найдёныш Эди будет жить, – сказала Мария в прерывистом волнении, – но он станет твоим отражением, Амвросий, – она, помедлив, взяла правую руку архиерея, – он будет похож на тебя внешне, потому что ты нашёл сосуд его затухающей жизни, я же вижу при этом только твоё лицо, если бы Эди принёс тот инок с погорелого скита, который сейчас страстно молится за младенца, это я увидела в зеркале судьбы, то малыш был бы его копия, – Мария развела руками, – уж не обессудь…
Архиерей выпрямился во весь рост, не зная, что и сказать в ответ, какие вырвать из груди слова благодарности. Они были в рост, Мария и Амвросий, и если бы.., если бы не предназначение свыше, данное Амвросию, возможно, они стали бы хорошею парой, самой красивой в пространстве Белого моря.
Тогда, 15 лет назад, архиерей не придал значения словам Марии, что Эди явится его отражением. Меж тем, в ту знаковую ночь воскрешения младенца, Мария, держа руку Амвросия, продолжала:
– вот только зрение.., младенец родился слепым, в его глазном дне пустота, а в твоём шелестит редкий на земле цвет – Чёрный Гладиолус, – я чувствую, брат мой православный, его энергию на себе, в этом ваше отличие, так я поняла, что Эди не твой сын, – Мария припала на колено, поцеловав край монашеского платья, – ведь и святые тоже л ю д и, лишь Эди будет твоим отражением, такова суть воскрешения. Он будет твоим подобием, ибо только твоё лицо я вижу перед собой, исцеляя малыша, – Мария прижала правую ладонь Амвросия к сердцу, – только никогда не приезжай сюда, более того, даже на расстояние не приближайся к «Дороге жизни», где мой замок. Эди ощутит твой биоток, и тогда ты пропал, он обнимет тебя, как отца, а я не вечная в этой жизни.
– Всё так и будет, пани Мария, – сказал Амвросий, – лишь я оставлю денег, не побрезгуй ими, и впредь мой инок будет снабжать всем необходимым, чтобы у Эди Миляховского в замке была жизнь, достойная принца.
– Разве деньги, презренный металл, есть смысл нашей встречи? – спросила Мария, – испив энергию Чёрного Гладиолуса, взглянув в твои бархатные глаза, я тотчас зарядила свой регистр мышления, переключив его на Эди. Не я, а ты спас младенца.
– Ладно, пани Мария, не умаляй свои достоинства врачевателя, – сказал Амвросий, – я не вхожу в пространство тайны женщины, исцеляющей детей, но этот запах, я его почувствовал сразу, как вошёл в приёмную твоего замка, то ли лекарства, то ли…
– Обычный запах, который дарит нам весна, это аромат горной аурикулы, – засмеялась Мария, – я как тот горец, влюбленный по весне, выхожу на горы, ища в расщелинах первоцвет. Ты, как никто другой, знаешь, что он в горах тёмно-красный, из лепестков тех я готовлю мазь, добавляя ещё и сок моего кактуса, который ты встретил на тропе к замку… Плюс мой опыт, интуиция, твои биотоки, ибо главное и то, какие я ощущения испытываю от человека, для которого делаю свой эксперимент, – и она помедлила, внимательно вглядываясь в лицо Амвросия, – я же сказала, что абсолютной гарантии как в медицине ,так и в любви нет.
– И кто же научил тебя этому искусству врачевателя, пани Мария? – Амвросий был потрясён простотой формулы воскрешения младенца Эди, ведь он, видно, и не первый ,и не последний.
Мария же ушла от ответа: – мы расстаёмся на условиях никогда больше не встречаться ни со мной, ни с Эди, – после некоторого молчания Мария добавила, – если будет крайний случай, я пришлю записку, вложив её в букетик горной аурикулы. Так лучше для нас обоих, если тебе передадут букетик красной аурикулы, значит, это мой знак, ищи в лепестках записку.
Амвросий усмехнулся: – каким числом ты определишь день рождения принца Эдварда Миляховского? – спросил он, собираясь в дорогу, на ходу надевая митру и поправляя двумя руками, – тебе решать, как матери Эди.
– Я возьму девятый день от Новолуния, а ты в то утро благослови Эди, – вот и всё, что требуется от тебя, брат мой православный, – она улыбнулась, – ты возвысился в моих глазах, остаётся только сожалеть, что грех совершён не женщиной, а мужчиной, хотя всегда во всех грехах первородных обвиняют женщину.
– Почему ты решила, пани Мария, – удивился архиерей, – что грех совершил мужчина? Хотя, право же, я не пришёл с Эди в твой замок, чтобы кого-то обвинить в соучастии падения.
– На кривой ножке младенца отпечаток грязного пальца, пахнущего навозом, – она вздохнула, – ну, а цветок Кентавра, синий василёк, я вытравила, но остался шрам, и в непогоду он будет давать о себе знать, малыш почувствует сильные колики, они, как отголосок его прошлого.
С этими словами Мария потянула на себя ручку двери, оставив Амвросия в глубоком замешательстве.
– А я могу взглянуть на Эди хотя бы на миг? – остановив движение врачевательницы, спросил Амвросий, – хотя бы на миг, чтобы увидеть во плоти воскрешение маленького уродца.
– Ладно, – сказала Мария примирительно, – ты слышал его истошный крик? Она ввела его через коридоры в полупрямоугольное помещение, распахнула штору. – Ты принёс принца Эди почерневшим, кто-то поглумился над ним, назвав ещё и принцем… Так вот, ты принёс Эди с укороченной ножкой, синего, скрюченного, – Мария подвела архиерея к детской колыбели, которая раскачивалась посреди залы, обставленной картинами христианского толка.
-Замри на полушаге, – тихо сказала Мария, – сними митру, поприветствуй найдёныша мысленно, ибо еще витает тайна воскрешения, – Мария приблизилась к колыбельке и, дёрнув за шнурок, опустила почти до пола, приоткрыв атласное голубое одеяльце, дав на миг увидеть прелестное тельце младенца. Он спал ровно и как бы улыбался, был весь чистенький и беленький, осыпанный мелким рыжеватым пушком.
– Смотри, Эди ещё и улыбается во сне, – архиерей осенил дитя крестным знамением, его глаза сузились, они испускали благодатные биотоки на мальчика.
-Эди вырастет блондином ,-тихо сказала Мария,- и если он прозреет ,то его глаза будут синими—знак Неопознанного…
Мария задёрнула штору на большом окне, прикрыла одеяльцем личико младенца, шумно вздохнула, – если бы ты знал, как я счастлива.
– Никогда не высказывай свои чувства, пани Мария, – назидательно сказал архиерей, – хотя.., мне можно, – и рассмеялся, – он одел митру, поправив её на затылке, награждая колыбельную Эди одним из самых лучистых взглядов, в чашах цветка рассыпалась магия всех оттенков переходящих по гамме красок то в иссиня-чёрный, то в пурпурный, бархатисто тёмно-красный.
– Я пришлю тебе денег, – тихо сказал Амвросий, – я скопил кое-что, занимаясь праведным трудом.
Они вышли во двор замка, над пространством распростёрлась круглая луна, словно наколовшись на вершине скал, нависших над морем.
– Значит, день рождения Эди сегодня в ночь, на девятый день от Новолуния, – сказал Амвросий, – любуясь отражением полной луны.
Мария кивнула в знак согласия, пытаясь в лунной ночи поймать взгляд архиерея, он же отвёл глаза и тихо сказал: – прости нас, пани Мария.
– По жизни тебе может встретиться женщина с синими глазами, она будет повязывать белый платок на голове, подобно тому, как ты носишь архиерейский клобук, словно пытаясь, как и ты, возвыситься, – Мария бросила взгляд вверх, – будь осторожен, она может пересечь твой путь не сейчас, а под старость, сверкая своей молодостью, но не спеши.., я же не вечная и, возможно, не смогу тебе помочь.
Амвросий промолчал, лишь улыбнулся.
– Дай я всё же поцелую тебя на прощание, – и Мария неожиданно обняла архиерея, поцеловав в уголок его жёстких губ.
Амвросий застыл на месте, не отталкивая от себя Марию, но и не поддаваясь её мимолётной ласке.
– Я испила твой изумруд в уголках губ, как сестра, насытившись им на вечность, – она слегка толкнула ладонью в спину, – а теперь ступай с богом, не оборачивайся.
Амвросий кивнул Марии, свернул на тропу, где оставил машину, но вдруг обернулся, улыбаясь, прикрыл тяжелые веки, рассыпая биотоки по земле.
– Я же сказала тебе, не оборачивайся! – крикнула Мария вслед, но Амвросий уже садился в машину, шум мотора заглушил её слова.
- …Это случилось лет пятнадцать назад, но каждый раз вспоминая, владыка Амвросий видел всё как наяву, словно и не было этих годков быстротечных. Однако почему он вспомнил сейчас, не завершив воскресной трапезы вместе со всеми, какая мысль отяготила его и натолкнула вновь на воспоминания, яркая красота художницы Эдит? Девушка ровесница Эди, хотя про мальчика знал только инок Никодим, но он могила, на него можно положиться как на себя. Амвросий вспомнил и фразу Марии, что Эди подбросил мужчина. Мужчина..? Вот кто владеет ещё тайной Эди, только нет уверенности, что злыдень знает про воскрешение принца Эдварда Миляховского, живущего в богатом замке польской дворянки Марии, да и сам владыка постарался, чтобы жизнь Эди все эти годы протекала безбедно, и мальчик смог получить хорошее образование.
– Надо было изменить имя младенца, – думал Амвросий, – вот в чём ошибка, но тогда он поддался эмоциям и по молодости не предвидел возможных инсинуаций, да и в тот роковой вечер было не до предсказаний, к тому же ,не верилось, что найденыш будет спасён. Оставалось лишь уповать на божий промысел. Приближалась гроза, стал накрапывать дождь, и владыка вошёл в покои, затянул штору и сел за рабочий стол, пытаясь переключить регистр мышления, забыться и войти в русло задуманной книги.
- Штиль на Белом море. Говорят, там, где цветут цветы, там всё хорошо, там находит покой и душа, она отдыхает. По крайней мере, в шестнадцатую весну свободной обители, построенной правой рукой молодого архиерея вокруг намоленного камня было именно так. Повсюду благоухали первенцы весны, посланники богини земной любви Фрейи. По всей вероятности, и богине нравилось это гористое место, наподобие долины, зажатой скалами. По правую сторону к террасам поднималась новая обитель из белого камня, а по левую, за горами, шумело Белое море с сильными холодными приливами, штормовым ветром, катавшем волны до самых вершин скалистого побережья. Когда же наступало затишье, то эти места даже богине казались самыми роскошными по всей Вселенной. В благодарность молодая, обворожительная богиня решила вознаградить Амвросия за его христианское сподвижничество. Она преподнесла ему два дара, именно весною она своими запахами первоцветов привлекла в те места юную художницу Эдит, томящуюся в поисках красивой натуры. А второй подарок, возможно, не менее значимый, в расщелине гор, на пути к вершине, Фрейя заговорила королевскую примулу, подготовив её к яркому цветению, и надо же случиться, именно в то утро обход горного склона делал охранник Его Преосвященства, монах Никодим. Он знал все потайные места владыки, где архиерей отдыхал в горах, и каждый раз по утру раннему спешил их все проверить перед выходом владыки на прогулку.
Монах, уловив лекарственный запах, оглянулся, но вокруг кроме причудливо отвесных скал с их потайными тропами, уводящими вглубь плоскогорья, ничего не было заметно. Он присел на корточки, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, как вдруг увидел из трещины скалы мясистый стебель, почти стелющийся, с гладкими кожистыми листьями, бутоны цветков были собраны в зонтики. Солнце только всходило и его малиновый разлив, касаясь пика плоскогорья, охватил и растение, потому монах не признал с первого раза цветка, и истинной его окраски не заметил. Забилось сердце то ли в тревоге, или же в радостном волнении, это надо было ещё понять. Монах Никодим нашёл более удобную лазейку в расщелине и, вытянувшись, подбираясь к склону, всмотрелся в цветок, источающий лекарственный запах. Под робким восходящим лучом бутон пробудился и отогнул лепесток, показывая свой истинный цвет и суть самой чаши.
– Аурикула! Красная аурикула! – вскрикнул монах, спешно поднявшись. И почти бегом стал спускаться вниз, в обитель, свернул к дому владыки.
Меж тем Амвросий, завершив трапезу, переоделся в кафтан тёмно-зелёного цвета и, взяв рукопись, вышел на террасу. На его пути вырос монах Никодим, взволнованный, припал к низу платья Его Преосвященства, поцеловав край одежды, и замер. Владыка положил свою большую ладонь на седую голову верного служителя, сдавив слегка виски, словно выгоняя плохие мысли, потом приподнял за локоть.
– Что такой напуганный, отец Никодим? – спросил, удивленный владыка на тебе лица нет!
– Я увидел в расщелине горы аурикулу, – в страхе прошептал монах, – красную примулу.
– Аурикулу? – ещё более удивился Амвросий, – разве это плохо увидеть в горах первый цветок весны?
– Да, Ваше Преосвященство, – тихо ответил монах, – пятнадцать лет назад на самой вершине я тоже встретил след красной примулы, это очень редко бывает, и у нас случилась катастрофа, вы помните тот сгоревший скит? – инок смахнул слезу, – я потянулся за этим дивным цветком, да и сам чуть не сорвался.
– Это всё, отец Никодим? – владыка отстранил монаха, пытавшегося преградить путь в горы.
– Нет не всё! Напомню, в ту ночь сгорел древний скит, аурикула – цветок страстей, горцы, если находят её в расщелинах вершины, спешат покинуть место проживания.
Амвросий нахмурился: – и не думай, что я брошу обитель, покажи мне цветок, я слышал, что красная примула предвещает извержение вулкана. Возможно, здесь поблизости гейзер, раз пробудилась аурикула, поспешим в горы…,пока не начался прилив!
– Только вы оставьте рукопись дома, – вздохнул о. Никодим.
– Ни в коем случае, – засмеялся владыка, – моё перо должно запечатлеть красную примулу, даже если придётся провалиться в тартарары и подвергся вечным мукам!
Никодим перекрестился:- боже упаси, владыка!
Амвросий властным взглядом повелел верному служителю идти вперёд, сам следом ступил на горную тропу.
Восхождение, хотя и привычное для монахов, но сопряжено с опасностью и только великое терпение всегда помогало достигать задуманной цели. Солнце, пробиваясь сквозь дымку тумана, идущего с моря, пригревало местность. И чем выше поднималась тропа, петляя меж горных пород, тем зримее становился рассвет над морским побережьем, тем явственнее билось сердце, словно пытаясь вырваться наружу и опередить своего хозяина, спешившего к цели. Владыка держал под мышкой папку с рукописью, припадая на трость, наконечник прочерчивал зазубрины на камне, на которые упирались пальцы босых ног. Хорошо отдыхал он только в горах, и здесь, как и у моря, было любимое место или, как называл Амвросий, знаковое место, которое помогало ему раствориться с природой, сосредоточиться на главном. На сути обновления души, постоянного совершенствования, в слиянии с природой, ее красотами земными во все времена года.
Старец Никодим, шедший впереди, вдруг присел, отчего владыка, задумавшись, чуть не споткнулся. Монах же, вздыхая, стал шептать слова молитвы, его взор был устремлен в сторону воронки, откуда стелилось причудливо изогнутое, словно пытаясь подтянуться к самой вершине горного склона, растение, очень плотного и насыщенного по окраске цвета.
– Красная примула! – воскликнул Амвросий, – ты не ошибся, отец Никодим, это и есть знаменитая аурикула, редчайший цветок в горной местности над морским побережьем.
Старец Никодим был маленького роста, потому не смог дотянуться до примулы: тогда Амвросий, присев и положив папку на колени, протянул руку, коснувшись бутонов, собранных в зонтики. Амвросий открыл папку и достал карандаш, на обороте исписанной страницы стал делать набросок первого цветка весны.
– Отец Никодим, – сказал владыка, – ты должен привести сюда Эдит, – он усмехнулся, – чем светиться своими телесами, пусть лучше запечатлеет красную аурикулу, – он сделал пару набросков строения цветка, – такого в природе не всегда увидишь, – помедлив, добавил, – срезать под корень цветок, чтобы лучше разглядеть.
– Как это сорвать? – удивился инок, – пусть цветёт в горах, сколько раз в детстве я бывал здесь, ещё по старому скиту помню, как горная примула зацвела во второй раз. Да и я не вышел росточком, Ваше Преосвященство, не дотянуться мне, да и что будем делать с этим цветком страстей?
– Аурикула великолепна, – тихо сказал Амвросий, – так хороша, когда я принёс Эди в замок к Марии, я уловил тот же самый запах, – он вздохнул, – ты понял меня, отец Никодим, – тот же самый лекарственный запах, – чуть помедлив, добавил, – может, это знамение, послание от Марии о нашем Эди? Ведь и ты к этому таинству воскрешения был тоже сопричастен, в ту ночь твои молитвы были услышаны, – он вздохнул, – и другой вопрос – почему именно тебе попалась на глаза красная аурикула? В горах много бродит монашествующих людей, но именно ты её заметил.
– Будь по-вашему, – сказал старец, – я сорву примулу, но что дальше?
– Что делать? – владыка помедлил, – я пошлю красную примулу Марии, как в память о воскрешении нашего Эди, ведь он общий.
Инок лёг на живот и стал подтягиваться к воронке, склон был отвесным и ему практически не за что было ухватиться, чтобы подтянуть к себе аурикулу, тогда Амвросий, захлопнув папку с рукописью, подался вперед, владыка был очень высоким ,и ладонь его коснулась лепестков.
– Здравствуй, Амвросий, – послышался мелодичный голос, который показался владыке очень знакомым, – как долго ты шёл ко мне, нашему Эди уже шестнадцатый, у нас пока всё хорошо.
– Ты слышал, отец Никодим, – Амвросий вздрогнул, отбросил ладонь от цветка и оглянулся, – ты слышал?
– Что слышал? – монах встрепенулся, – я лишь видел, как мелькнула тень, когда рука Вашего Преосвященства коснулась красной примулы.
– Я слышал голос женщины, – удивился Амвросий, – голос Марии, – помедлив, он добавил, – оставим цветок в покое, этот ключик весны пусть он радует тех, кто достигнет высот.
Владыка выпрямился во весь рост, – пожалуй, я спущусь к морю, освежусь, меня бросило в жар, – он усмехнулся, – эти приливы, дорогой отец Никодим, старею я.
– Но раз вы дотронулись до аурикулы, я советовал бы вам сорвать её, – сказал монах, – если вы не потянули к себе, то она может потянуть вас ...
– Может ты и прав, но что-то остановило меня сорвать красную примулу, – сказал Амвросий, – остановил её голос, который я услышал внутри себя, надо полагать так. Прошло пятнадцать лет, а я всё слышу его.
Владыка поднялся выше, почти на самую отвесную точку, бросив взгляд на море, на волнах которого вылег штиль. Солнце окрасило гладь побережья и в бликах лучей Белое море казалось розовым. Амвросий неожиданно вскрикнул: – отец Никодим, поднимись ко мне, – он выбросил руку вперёд, – посмотри вдаль, я вижу остров, посреди моря вырос скалистый остров.
Монах, тяжело переводя дыхание, поднялся на пик вершины, и его удивлению не было предела: – выходит, шторм выбросил ночью коралловый риф, – сказал монах, – вот вам и аурикула.
– Нет, это не коралловый риф, – ответил владыка, – слишком отвесен, – подумав, добавил, – может, действительно здесь есть гейзер, если так, то я должен увидеть его, – владыка протянул о.Никодиму папку с рукописью, – возвращайся обратно домой, а я выйду к морю по тропе.
– Но здесь опасные спуски, – забеспокоился тот, – лучше пройти со стороны террасы к побережью, привычной тропой.
Амвросий усмехнулся: – море как на ладони, а ты хочешь, чтобы я, экзарх свободной обители пространства Белого моря, убегал от его красоты в поиске легкого пути? Нет, брат, это не в моем характере.
Передав папку с рукописью, владыка, обойдя отвесную скалу, проник в расщелину и сквозь неё заскользил к побережью. Старец присел на секунду, прижав к груди свиток папируса, молясь до той секунды, пока владыка не скрылся за отвесной скалой, открывавшей путь к морю; о. Никодим поднялся, тяжело вздыхая и сожалея, что так легко отпустил одного владыку через опасную тропу, поспешил снова взглянуть на аурикулу, полюбоваться редким цветением. Однако на том месте красной примулы уже не было, он стал вспоминать место воронки, откуда рос цветок, но… старец понял, что это неспроста и заспешил в обитель, однако там было всё спокойно и не предвещало ничего опасного для жизни. Тишина.., именно гнетущая тишина испугала монаха.
Владыка, меж тем, выбрался к морю. Место было усыпано галькой, после ночного прилива устлано большими фиолетовыми медузами.
Сильный порыв ветра обдал Амвросия холодной волной, от монашеского платья упала густая тень и словно шагнула за ним. Он проделал путь до того места на побережье, чтобы стать лицом напротив новоявленного острова, поднявшегося на поверхность во время шторма. И когда тень вновь метнулась, он оглянулся по сторонам, ему показалось, что ещё кто-то рядом, неожиданно владыка заметил художницу. Она сидела на камне и рисовала восходящее солнце, расположив на коленях листы, вокруг неё были разбросаны пастельные карандаши. Амвросий, не сдержавшись, стал посмеиваться.
– Что ты здесь делаешь, Эдит? – удивился он, – в такую рань на безлюдном море, здесь не менее опаснее, чем в нём самом.
– Я ждала вас, – сказала она откровенно, – потому что заметила ваш силуэт на пике вершины, – Эдит не отрывалась от рисунка, – вначале я вас приняла за эдельвейс, знаете, такие высокие цветы, которые растут над уровнем моря по склонам, прямо из камней выходят. Лишь приглядевшись, поняла, что это люди, а кто же кроме вас и отца Никодима здесь будет блуждать?! – и она рассмеялась, – однако это мелочи по сравнению с тем, что я здесь увидела, точнее открыла.
– И что же ты открыла? – спросил он, – хотя мне не нравится, что ты часто входишь в мое пространство, кажется, мы договорились?
– Зря вы так беспокоитесь за своё пространство, – усмехнулась Эдит, – никто на него не покушается, но есть вещи более серьёзные, – она улыбнулась, – и, тем не менее, я рада вас видеть!
Владыка присел рядом: – чем ты покрасила волосы, они с одной стороны медные, а с другой.., зелёные, что ли, не разберу краску.
– Для разнообразия, ищу цвет своей краски, и, возможно, карандаш прошёлся по волосам, – Эдит отложила в сторону планшет, – я не спала почти ночь, мне хотелось запечатлеть шторм… И в тот миг я увидела, как буря выбросила, точнее, вырвала из глубины моря этот скалистый остров, –она устремила взгляд в сторону моря, – в тот миг хлынул холодный дождь с градом, – Эдит вздохнула, – здесь вулканическая порода, владыка, вот почему сгорел тот скит, правда, на свете меня в ту пору ещё не было.
– Тебе не откажешь в наблюдательности, – тихо сказал Амвросий, – мы с отцом Никодимом заметили этот скалистый остров ещё с вершины, потому я пришёл сюда, остаётся лишь уповать на Бога.
– Беда вся в том, владыка, – сказала Эдит, – что не всегда знаешь, как вознестись над уровнем моря, чтобы Всевышний тебя заметил.
Амвросий поднялся, ступил в море: – только не следуй за мной, ты отвлекаешь от главного.
– Не суетитесь, Ваше Преосвященство, – усмехнулась Эдит, – я не умею плавать и боюсь холодной воды, а вы снимите хотя бы верхний кафтан, я покараулю, пока есть охота рисовать восход солнца.
– Я плаваю всегда в одежде, – он разрезал ладонями тяжёлые волны, – солнце такое близкое и как бы упало на остров, – тихо сказал Амвросий, – мечта поэта, – он засмеялся.
– Странно, но почему-то я приняла вас за эдельвейс, горный недоступный цветок, – она углубилась в рисунок, смикшировав оттенок восходящего светила.
– Ты говоришь мне это во второй раз, – владыка заходил в пространство моря всё дальше и всё глубже, волна окатила его плечи.
– Когда я с помощью заклинания Наума попала в ваши покои, то увидела у иконы Иверской на вашем рабочем столе засушенные цветы. Они казались такими прекрасными, к тому же сохраняли ещё горный запах, это же был эдельвейс, владыка, не менее редкий цветок! Кто-то вас очень любит и заботится, ведь надо подняться на самую вершину, чтобы сорвать эдельвейс, это очень опасно.
Амвросий усмехнулся: – право же, Эдит, я никогда не придавал тому значения, цветок как цветок, кто их ставит, кто ищет в горах?
– Да, я понимаю, что вы очень суровый, жёсткий, но у вас есть два хороших качества, которые меня привлекают, хотя вы и монах…
– Какие же? – владыка вдруг обернулся и остановился, разгребая ладонями волны, – ты меня всё больше поражаешь, Эдит.
– Вы… – Эдит помедлила, – вы смелый и сильный, в вас есть-то, что определяет настоящего мужчину, хотя на вас этот чёрный противный кафтан!
– Ну и на том спасибо, – Амвросий усмехнулся, – причём тут кафтан! Хотя я не такой уж смелый и сильный, просто восхождение на горы снимает мой физический стресс, смягчает магний, который подпитывает биотоки, живые клетки организма, в тот миг я получаю равновесие. Именно в горах, Эдит, я написал лучшие страницы «Книги Монаха» – с этими словами Амвросий рванулся вперед и, широко взмахнув, поплыл к новоявленному острову.
Эдит поднялась с камня, подошла к берегу, осторожно замочив ступни ног, и крикнула в сторону моря: – как жаль, что монах не разделся при мне, я бы увидела его белое волосатое тело и запечатлела миг на рисунке, – она бросила в воду гальку, – эх, такая интересная натура уплыла!
Девушка прошлась вдоль берега, пока не наткнулась на моторку, выкрашенную в цвет яркой охры с надписью на носовой части «М а р и я». Эдит усмехнулась, её удивило, что лодка выкрашена в ядовито жёлтый цвет, и свернула по горной тропе в сторону обители, где её ждал завтрак. «Когда двоим хорошо, то обязательно рядом появится барабашка, сядет посередине, чтобы сделать людям плохо» – так думала Эдит, держа под мышкой планшет с недоконченным рисунком восходящего моря; что-то после того, как Амвросий поплыл к острову, испортило ей настроение, и она прервала работу над вымыслом. Как жаль, что мать так рано покинула, оставив Эдит наедине с собой, – размышляла девушка, сознавая, что кроме этой обители, построенной владыкой для страждущих душой, у неё не было другого пристанища.
-Есть же «Христос страждущий»,-вслух проговорила Эдит ,поэма в 2640 стихах ,о которой рассказывала бабушка, в ней описывается жизнь Спасителя, напоившего изумрудом своих учеников и последователей, по такому пути пошел и владыка Амвросий, где бы я притулилась после смерти матери?
Пройдя часть пути через горы, Эдит присела, раскрыла планшет, решив сложить все рисунки по порядку темы, задуманной в пути странствий, и вдруг расхохоталась, она увидела Луиса в бязевой рубахе, тот переодевался, два кафтана лежали у ног, синий и чёрный. Парень засмущался и подтянул к себе чёрное платье, однако художница перехватила его руку.
– Ты меня испугался, Луис? – воскликнула Эдит, вновь обретённая идеей нового рисунка, – не шевелись, застынь так в рубахе, я сделаю набросок красивой фигуры.
Эдит мгновенно распахнула планшет, и стоя, боясь, что Луис не поймёт её замысел, стала рисовать, – ты и прекрасен ,и печален, как амарант!
– Как кто? – переспросил юноша, – ты всегда, Эдит, появляешься не вовремя и говоришь загадками.
Художница улыбнулась, счастливая и довольная, – какой ты глупый, Луис, но ты мне нравишься своей глупостью, повернись ко мне лицом!
Луис послушно развернулся, улыбаясь Эдит.
– Что ты здесь делал в такую рань? – спросила она, рисуя.
– Меня послал отец Никодим присмотреть за Его Преосвященством, но по дороге мне стало жарко, и я решил переодеться.
– Ясненько, я нарисую твой силуэт подобие амаранта, – она улыбнулась, – в детстве рядом с нашим домом росло целое поле амарантов, я была уверена, что ты знаешь этот цветок .Его соцветия схожи с гребнем петуха, листья же и молодые побеги годятся в пищу, зёрна амаранта моя мать перетирала в ступе на муку, пекла лепёшки, когда подходило тесто, оставляла часть на дрожжи и делала напиток.
Девушка приподнялась и ткнула белым карандашом в живот Луиса, – амарант ещё называется цветком дьявола, – она расхохоталась, – в одну весну в нашем поле тёмно-малиновых амарантов вдруг зацвёл белый. Представляешь, белый гребешок, такой красивый и печальный, как ты, – она радостно вздохнула, – мать же воскликнула: «смотри, Эдит, в нашем поле взошёл цветок дьявола», – она попыталась вырвать его с корнем, но поскользнулась у лунки и упала, когда я прибежала на крик, приподняла мать и развернула к себе лицом, то оно стало б е л ы м, – Эдит вздохнула, – так при странных обстоятельствах умерла мать, моя кормилица.
– Может, за её душой пришёл дьявол, вселившись в белый амарант, – тихо сказал Луис, – она в чем-то провинилась..? – вопрос юноши повис в воздухе.
– Да не многим более, чем все другие, – Эдит оторвалась от рисунка и посмотрела вдаль, – возможно, в душе её был протест, что судьба не послала в молодые годы достойного хозяина. В доме она делала всё сама, а я только рисовала, почему, не знаю, помню с самого детства, рисовала всё то, что видела на пути. Рисовала на камнях, на песке, на земле, под дождем, это придавало мне настроения, а мать одна крутилась по хозяйству, но меня не ругала, хотя считала свою дочь бездельницей.
– А что отец? – Луис нагнулся и поднял чёрный кафтан, набросил на плечи, разминая затёкшие ноги.
– Замёрз? – спросила она, не отрываясь от рисунка, – отца я не помню, да мы с матерью не говорили на эту тему, я была ещё слишком малой, чтобы понять, что без мужчины живётся не всегда сладко.
– Она молилась? – спросил Луис.
– Молилась? – Эдит пожала плечами, – не знаю, может, ей было некогда, – девушка отложила рисунок, бросила карандаш в планшет, – припекает, ты замёрз, а мне стало жарко: – она потянула Луиса за руку, – свернём в тень, упавшей от горы.
– Да не замёрз, просто сквозняк от расщелины, – сказал он, – у меня всегда болит поясница по утрам, когда свежо и ветер дует с моря.
Луис подсел рядом с Эдит, поджав ноги под себя.
– Ты такой душистый, Луис? – сказала она тихо, – может, от этого мне стало жарко, – она обняла Луиса, – расстегни мне блузу, моя белая роза совсем зачахла без ласки солнца и горного воздуха.
Луис послушно расстегнул блузу: – я же не сено, Эдит, ты жмешься ко мне, а по сану мне не положено.
– Ты дал обет? – спросила Эдит. – Ты хочешь быть пострижен в монашество?
– Нет, я пока на пути к нему, готовлюсь ещё, – ответил Луис.
– Ну, тогда всё хорошо, расстегни мою блузу чуть ниже, – она взяла его ладонь и провела по груди, – бог дал мне красивую грудь для созерцания того, кто мне встретится в пути странствий, кто мне понравится. И если ты её немного помнёшь, то это не грех и святые тоже люди, – она помедлила, – я где-то вычитала эту фразу, а где, не помню…,возможно, я слышала ее от бабушки?
– Эдит, зачем ты вышла на мою тропу? – юноша колебался, – я же шёл проследить за Его Преосвященством.
– Да оставь ты владыку в покое, – усмехнулась Эдит, – у тебя же имя испанское, Л у и с, оно больше подходит к католикам, а как же ты оказался в православной обители?
– Было нечего есть, Амвросий подобрал меня среди нищих только потому, что я был с него ростом, я помнил лишь своё имя, а, может, это было не моё, но все звали меня Луис, так стал звать меня и Амвросий, его ничего не смущало, он не такой, как все…
– Значит, судьбою мы в чём-то схожи, – Эдит прижалась к Луису, – значит, нас свёл сам Господь, и тебе не возбраняется поцеловать меня хотя бы разок, – она приподняла его бязевую рубаху, – знаешь, в жизни всё можно, только без последствий, – сказала Эдит и увлекла в свои чары Луиса, – бедной девушке никогда не надо оставлять последствий.
Солнце вылегло над горным пространством, охватив лучами молодых, припекая их спины.
– Ну вот и всё, – тихо сказала Эдит, – это так просто, Луис, ты мягкий, как воск, и податливый, – она стала одевать на юношу синее платье, потом набросила на плечи чёрный кафтан, – хотя владыка тебя любит, но я не хочу, чтобы он увидел нас вместе, он же скоро должен возвратиться. Амвросий такой хитрый, ты заметил в его глазах Чёрный Гладиолус, а это самый коварный цветок на свете, говорят, на земле такого цветка нет, он в единственном экземпляре в глазах Амвросия цветёт.
– Но ты такая… – Луис не мог найти подходящего слова от волнения, – ты же, как богиня, Эдит, – и он прижал её руку к губам
– Ой, Луис, какой ты ещё глупый, – засмеялась она.
Луис вздохнул, – извини, но я такой неуклюжий, скованный, может, в другой раз будет лучше, хотя мне так хорошо с тобой, Эдит.
Девушка развеселилась, поправила блузу, отряхнула юбку, взяла в руки планшет, сложила рисунки, – сейчас бы съела жареного барашка! Надо найти того пастуха, – и она улыбнулась своей тайной мысли, – ну, ладно, мальчик, выйди на тропу к владыке, – Эдит потрепала его чёрные волосы, рассыпавшиеся по плечам.- Попрощавшись, вскоре скрылась в тумане, лавиной идущим с морского побережья.
Сначала в горах было тихо, спокойно, затем вдруг невесть откуда возник этот туман, прикрыл солнце, испортив Луису настроение. Он припал на колено и стал молиться. В такой позе застал юношу, выходящий на тропу, Амвросий.
– Луис, мальчик мой, – удивился владыка, – что с тобой? – он приподнял юношу с каменьев, – тебя кто-то обидел в такой ранний час?
Одежда Амвросия была мокрой, Луис поднялся, отжал низ платья,– я виноват перед вами, владыка, – Луис припал к руке Его Преосвященства.
– В чём твоя вина? – удивился Амвросий, – у меня сегодня хорошее утро, не пытайся его испортить.
– Здесь только что была Эдит, – он вздохнул.
– Ах, эта красавица, бесхитростная Эдит! – владыка засмеялся.
– Это случилось совсем нечаянно, – тихо сказал Луис, – я не мог ей отказать, она так шуршала перед моим лицом своей белой розой, что я… – и Луис обронил слезу.
– Эдит насмешница, но талантливая и если так было угодно богу, чтобы ты коснулся белой розы, то… – Амвросий развёл руками, – мой мальчик, в жизни всё случается нечаянно, главное, чтобы ты почитал Творца и молился правильно, – он приподнял Луиса и обнял его, – и что же она сказала при этом?
– Она говорила при этом: «какой ты душистый, Луис!»
– Ах, вон оно что! – владыка развеселился, – она просила, чтобы ты с ней обручился?
– С Эдит? – Луис усмехнулся, – да зачем я ей нужен! Она всё ищет натуру, в её голове один ветер.
Обнявшись, они стали смеяться над происками несносной художницы, вошедшей в монашескую тень и расположившись в ней, как у себя дома.
– Ваше Преосвященство, благословите меня, – тихо сказал Луис, – я пойду по следу Эдит, чтобы помочь ей обрести своё достоинство, ибо она поспешила к тому противному седому пастуху.
– Если ты влюблён в Эдит, – сказал Амвросий, – то ищи след немедленно, – и он, протянув ладонь для поцелуя, подтолкнул его вперёд, давая тем самым понять, что разговор окончен.
Луис поклонился ему в пояс. Владыка остановил его, тихо добавив: – ночью заговорил вулкан, мы же так крепко спали, что не слышали его толчка в горах, – он шумно вздохнул… – Пробудилась и взошла в горах красная аурикула, её заметил отец Никодим на вершине в глубокой воронке, – владыка повернул лицо в сторону моря, – странно еще то, что на поверхность моря выброшен скалистый остров, но я не доплыл до него, слишком опасно, крутая волна охватила тело и потянула на дно. Подготовь моторную лодку, заправь, почисти снасти, сложи вёсла на крайний случай, я должен проникнуть на остров и увидеть, что там внутри, есть ли жизнь растений? – и он задумчиво посмотрел вдаль, – меня осенила одна мысль, – он засмеялся, – ну, ступай, сначала найди Эдит, не дай ей приблизиться к тому пастуху, от которого несёт навозом, уведи её от греха, а потом займись моторкой.
– Нет, я сначала проверю вашу лодку, – и Луис, запахивая кафтан, свернул к морю, а владыка поспешил по петляющей меж скал тропе, ведущей к дому.
- Видение из детства. Я вывела эту фразу в подзаголовок и правая рука тотчас вздрогнула, ощутив дыхание бабушки Анны Степановны Домбровской, я вспомнила её светлый образ, силуэт высокий, статный, доброе лицо с голубыми глазами, с судьбой тысяч таких как она, поседевших рано в горестях по молодым мужьям, невинно убиенных за веру Христову.
Так вот, я начала делать наброски романа ,назвав его в первом варианте:
«Ч ё р н ы й Г л а д и о л у с. К н и г а М о н а х а», ещё в ученических тетрадках , в ранней юности, когда мой младший брат учился в пятом классе. Вдоль длинного стола, старинного с резными ножками на шариках, наследство от Домбровских, стояли две раскидистые пальмы в вёдрах, прикрытые газетными полосами, за моей спиной было высокое трюмо очень красивое, таких зеркал уже давно нет, по окнам «герани» и «невестки», цветущие круглый год. Напротив меня подсаживался Иван и неотрывно следил за мной, его, видно, распирало любопытство, что пишет старшая сестра.
Однако он раздражал меня сопением, и я щёлкала его по носу, он выбегал во двор и начинал гундосить, жаловаться матери, что я выгоняю его из дома. Рядом с особняком тёти Вали, красивым и ухоженным, с разросшимся садом над самым Доном, вдоль плоскогорья тянулся полуразрушенный мужской монастырь; среди монахов выделялся один, импозантный, высокий и плечистый, с красивой шевелюрой, окладистой бородой, по виду экзарх, в голосе которого словно дрожала серебряная ложечка, так он пел мелодично. Звали его Амвросием, он нравился моей бабушке, и та часто посылала меня с торбами, полными всяких продуктов, особенно бабушка любила печь вертуты с крапивой, перемешав грибами, такой вкуснятины после её смерти ничего более не ела. Но я отвлеклась, как-то под вечер ступила в монастырский двор, посреди догорал костёр, возле которого, разгребая уголья, сидели Амвросий и с ним три монаха, совсем мальчики. Передав сумку с продуктами от бабушки, я хотела уйти, но Амвросий взял меня за руку, сказав: ну, давай, малява, присядь с нами, не побрезгуй и нашей пищей, он разворошил жар и положил на дощечку нечто вроде печёной картошки, подул её со всех сторон.
– Наверное, ты, малява, никогда не лакомилась таким деликатесом, – он усмехнулся, – по вкусовым качествам это нечто вроде вертуты твоей бабульки, – он протянул запечённую луковицу гладиолуса в тесте, – сними пробу !
Я надкусила деликатес.., глаза красивого монаха смеялись.
-Вкусно, как бараний бифштекс!- луковица была крупная и я завернула ее половинку в салфетку .Монахи же хохотали :-ты знаешь вкус барана?!
– Ну, как Домбровская, тянет ещё? –спросил «экзарх» тихо, – спасибо ей, в нашем довольствие есть и мука, и сахар, и рис, чай, даже бражку она умудрялась присылать, а эти её пасочки.., с лимончиком, творожком!
– Уже стала плоха она, – я вздохнула, – это не бабушка, а мать собирает вам продукты, моя мать Вера, а Домбровская не поднимается с постели.
Монах осенил пространство крестным знамением: – и твоей матери Вере пусть ниспошлёт Господь здоровье, – помедлив, спросил, – так что же с самой Домбровской? Она такая шустрая была, бегала к нам в гору рысью, сам видел и завидовал прыти той.
Я пожала плечами: – соседка сказала, что бабка Домбровская дышит на ладан, наконец-то позвал её Николай к себе, сколько можно одной на земле маяться, ведь она зарок выполнила, сказав, – я ни с кем более, ни… ни.., а Николай её муж, мой дед.
– Вот оно что, – удивился Амвросий, – ладно, спасибо, что сказала правду, – и, помедлив, добавил, – дайка мне ещё раз точный адресок, даст бог, свидимся, только не тревожь, не говори ничего обо мне.
И вот в один из вечеров тихой осени в низы дома неожиданно спустился, пригнувшись, сняв чёрный клобук и держа его в правой руке, высокий монах. Я вздрогнула, признав в нём Амвросия. В левой же руке он торжественно нёс незнакомый мне, и всего один, цветок, роскошный его стебель с темно- красными, но отливающими чернотой, бутонами ,был настолько волнующ и красив, что я, вздрогнув, спиной прижалась к стенке, пропуская Амвросия к постели бабушки.
На низком подоконнике горела керосиновая лампа, мать лишь выкрутила фитиль и сразу вышла, поманив и меня, но я осталась, разглядывая странно высокое, в полубутонах растение, которое переливалось, то красными, то чёрными оттенками, в зависимости от того, с какой стороны подсаживался Амвросий к постели бабушки. Я пододвинула стул, он положил на него клобук, на грудь же бабушки, у самых скрещённых рук тот яркий цветок. Амвросий неожиданно улыбнулся, поймав мой взгляд.
– Это гладиолус, – сказал он тихо, – здесь таких цветов поблизости нет, я привёз его из астраханской поймы, – он погладил сморщенные жилистые руки Домбровской, – гладиолус, как символ воскрешения и благочестия. Редкий цвет в ваших краях, его больше встретишь вблизи Астрахани, или в низовьях Дона.
Потом вошла мать и вывела меня за руку, глухо сказав, что надо оставить Амвросия с бабушкой наедине. Я поднималась по ступенькам, оглядываясь на гладиолус, так он был величественен, как сам экзарх, пока не раскрылись все соцветия от низа до самого верха; уже полувысохший я опустила на могилу бабушки вместе с кустом посаженной по осени сирени. Так и осталось в памяти видение импозантного экзарха в чёрном головном уборе, длинном кафтане поверх монашеского платья, похожего в чём-то на роскошный гладиолус. Эти видения из детства прочертили впоследствии всю мою судьбу и открыли путь к созерцанию жизни других монахов, не менее высоких и значимых по сану.
- Орёл Рафаэль. Обычно после утренней трапезы Его Преосвященство уходил в горы, он брал с собой папирус, слиток из склеенных полосок этого растения, на которых столбцами писал свои размышления; опираясь на шест, он не спеша поднимался по крутой тропе в гору, на самую вершину. Обычно по утрам над ним высоко парил Орёл, высматривая добычу, сколько лет приходил на это место Амвросий, столько раз встречался с этой красивой и гордой птицей, прозванной Рафаэлем.
– Ну, Рафаэль, спускайся, – владыка припал на колено, достал из разреза кафтана свёрток в пергаментной бумаге.
Орёл, заметив с высоты монаха, камнем бросился вниз и распластал крылья, охватывая когтями платье Амвросия, тот развернул свёрток и выложил перед птицей вертуту, на какой-то миг взгляды Орла и Его Преосвященства встретились: – ну, здравствуй, Рафаэль, с весной, – он вздохнул, –подкрепись!
Орёл зашумел крыльями, словно отвечая на приветствие, и стал усердно выклёвывать из теста мясную начинку. Амвросий погладил птицу по голове, почистил перья, протяжно вздыхая.
– Я пролетал над замком Марии, – вдруг сказал Орёл, оторвавшись от пищи, – если тебе это интересно?
– Отчего же? – владыка сжал руки, словно кто-то его обжёг, – она всё так же красива? В ней было что-то такое, что держит мои думы о ней вот уже пятнадцать лет, но я, пожалуй, ни её, ни Эди не узнаю.
– Я видел лишь мимоходом Эди, он стоял у распахнутых ворот замка и махал мне рукой, прося жестом приблизиться.
– Эди махал тебе рукой? – удивился Амвросий, – но откуда он знает твою легенду?
– Земля слухами полна, когда я подлетел, он покормил меня с ладони тёртыми орехами, лишь на нём была сутана, – Орёл встрепенулся правым крылом, приподнял, – он вложил в мои перья записку от Марии.
– Записку? – Амвросий слегка изменился в лице, – потянулся к правому крылу, встряхнул перья, и вдруг улыбнулся, почувствовав нежнейший запах, – букетик горной примулы, записка от Марии, – владыка смеялся, – столько дарят мне цветов, я их никогда не покупаю, но самый приятный, самый трогательный, так этот букетик примулок от Марии, – и он понюхал цветы… настроение Однако в следующую минуту его настроение внезапно испортилось, Амвросий схватился за голову: – о боже, дай силы.., если ты ещё можешь дать их мне..!
Владыка смял букетик, растёр его пальцами, лишь они стали красновато-фиолетовыми: – кто бы мог подумать, что так может случиться?
– Разве плохо, что Эди вышел на стезю, которую ты сам когда-то выбрал, Эди стал монахом, я думал, что записка от Марии тебя обрадует, иначе бы.., я не сказал о ней.
– Нет, Рафаэль, ты сделал правильно, я бы всё равно почувствовал, что есть что-то для меня, – сказал тихо Амвросий, присев на камень, – значит, так было угодно свыше, но как больно это слышать, что мой Эди к а т о л и к, и на нем монашеская сутана.
– Разве ты не предвидел, когда нёс ребёнка к Марии в католический замок? – удивился Рафаэль, вновь занявшись пищей, – не мы, а Господь выбирает нам путь, усыпанный розами в жёстких шипах.
– У меня не было другого выбора, – ответил Амвросий, – когда спасаешь ребёнка, не раздумываешь, – он пожал плечами, удручённый сообщением.
– Я думаю, брат мой православный, что это не самый плохой вариант, который уготован Эди, – он разорвал когтями кусок сбитого теста, – более того, раз вышли на этот разговор, я видел с высоты полёта, как Эди рукоположил сам приор, духовник Марии, ты понимаешь, сам п р и о р, – после этих слов Орёл продолжил свою нехитрую трапезу, – я также слышал, что Эди усердно учит латынь, хочет прочитать в подлиннике один догмат.
– Что за догмат? – удивился Амвросий, – чем дальше время, тем больше испытаний.
– По всей вероятности, это тайна приора, – ответил Рафаэль, не отрываясь от сытой пищи.
-Однако младенец родился слепым? Как же он читает подлинники латыни?
-У твоего Эди синие глаза ,он видит тогда, когда хочет, как и говорит тогда, когда считает нужным, -Рафаэль встрепенулся,- ты же помнишь, что у него на груди татуировка ,знак в а с и л ь к а, и даже всесильная ворожея Мария не смогла его вытравить с белой кожи.
– Значит, мальчик попал под власть этого… – Амвросий не мог найти подходящего слова, лишь стукнул ладонью по камню,- Мария сказала ,что сняла знак василька.., значит, он появился снова?
– Ты чем-то недоволен? – Рафаэль захлопал крылами, – Эди дарован провидением ,неважно, кто он теперь , песчинка ли во Вселенной? Брат мой, поступок же Марии не оскорбление чести наших монашеских устоев, а её украшение, это всё равно, что венок из мяты, возбуждающий работу мысли.
– О, венок из мяты, – усмехнулся Амвросий, – как это весомо сказано, венок из свежих цветов мяты носил на голове римский историк Плиний, советуя это делать и своим ученикам, а что наши головы сегодня? Стоят ли того, чтобы кто-то удосужил их венком из мяты?
– Тебе виднее, и спасибо за трапезу, – сказал Рафаэль, – распушившись, взмахнув правым крылом, как более сильным, взлетел на выступ, с него ринулся в поднебесье и вдруг пропал за тучей, словно и не было у владыки собеседника.
Амвросий лишь пожалел, что, поддавшись чувствам, растёр букетик горных примулок, выбросив в расщелину. Неожиданно Орёл Рафаэль показался в синеве неба, спустился, но не стал снижаться до земли, лишь опустил крыло на край выступа.
– Брат, я не открыл тебе самого главного, записка от Марии отвлекла мои думы, – сказал Рафаэль, – я ищу синий василёк, это любимый цветок приора. Самое странное то, что приор поклоняется Кентавру, разумеется, втайне, получеловек полуконь его утешение.
– Выходит, ты сдружился с самим приором? – засмеялся Амвросий, – а наводишь тень соучастия, или же у приора появились душевные раны, скорей, телесные? И он, подобно Кентавру, залечивает их соком василька? – владыка был удивлен происками Орла, – да ты такой глазастый, неужели не можешь в лугу заметить василёк. Их по весне столько много в лугах, даже в нашей долине, стиснутой скалами.
–Ты прав, этой весной васильков уродилось много, – сказал Рафаэль, – я только что пролетал над полем, усыпанном васильками .Тот самый хитрый, он открыт лишь Кентавру.
– Синий цвет очень обманчив, – усмехнулся Амвросий, – он может иметь белый оттенок, и розовый, где солнце, на востоке, или к западу клонится.
– Да, с Кентавром шутки плохи.--- Орёл снизился, сел на плечо Амвросия-,
плохо слышать, ты что-то знаешь про синий василёк? я старею и начал
Владыка погладил Рафаэля по выгнутой спине, – в юношестве, когда взрослел при монастыре, услышал от наставника такую присказку: священника вопрошает грешник – научи меня быть ближе к богу, – но тот молчал, – тогда грешник даёт деньги священнику, однако по-прежнему молчание, грешник упал на колени и застыл в поцелуе его правой руки. Священник вдруг сказал: – если моё молчание тебя не научило, то что дадут тебе мои слова.? Будет ли от них прок?
Они же ещё тяжелее моего молчания, – владыка усмехнулся, – ну, а теперь о главном, у синего василька есть тайна, его семена рассеиваются в ржаном поле и, наверняка, возле монастыря приора растёт рожь или пшеница, как водится, но непременно есть и один василёк, а если он один, то обязательно синий, или лазоревый, упавший с небес.
Орёл встрепенулся: – как давно это было, я только учился летать, приор перехватил на лету стрелу злыдня, пущенную в меня, тем самым спас жизнь. Я в долгу перед ним, и соком же синего василька залечил мою сквозную рану, – он приподнял крыло и Амвросий, увидев глубокий шрам, содрогнувшись, – будь осторожен, когда поднимаешься в горы, – Орёл взлетел выше, – злыдень только и ждет, – растворился в поднебесном пространстве.
Амвросий подтянул к себе шест и, придерживая под мышкой папку со свитком, рукописным текстом, продолжил путь восхождения на пик горы. Здесь он любил обычно уединиться и предаться размышлениям, ближе к светилу мысль работала более свежо, вспоминались наставления древних философов, многие их которых владыка помнил на память, пытаясь изложить их на папирусе.
Однако через несколько шагов случилась оказия, то ли от предгрозовой атмосферы, или сжатого горного воздуха, но у владыки перехватило дыхание .В следующую минуту ему показалось, что кто-то толкнул в спину, он весь обмяк, и, не удержавшись, упал на грудь, лишь выскользнув из рук, зазвенел наконечник шеста. От падения грузного тела посыпались камни, следом выскользнул из-под мышки и свиток папируса, застряв в расщелине. Из глаз Амвросия посыпались искры, точно пламя обожгло Чёрный Гладиолус, возможно, они покачнулись вместе – дивный цвет и его хозяин, после чего владыка потерял сознание. На счастье Орёл Рафаэль еще парил над склонами гор ,вдыхая морской воздух с ароматом красной аурикулы ,и потому он услышал какой-то шум, скорее звон, вскоре заметив в расщелине наконечник шеста. Орел, спикировав, понял ,кому он принадлежит и стал искать его хозяина по горным отсекам
- Поляна нарциссов
с розовыми привенчиками. На самой высокой точке гор между выступами, нависших над просторами Белого моря, возможно, штормовыми ветрами была высвечена поляна, меж каменьев били ключи тёплых источников, а в залитом водою пространстве росли дикие нарциссы, склоняясь головками над озерцами, словно любуясь собою. Привенчики тех диких цветов, пробивавших камни, были розовыми, чем создавали особую прелесть, в природе такой сорт уникален, разве что среди гор вырвется весенняя проталинка, словно озерце меж камней. А посреди всполохи дикого нарцисса с розовым кружевным подворотником и дух захватит, созерцая горную красоту.
Сюда и принёс Орёл Рафаэль владыку Амвросия, подхватив когтями за его широкий пояс, плотно обтягивающий грузное тело главного монаха пространства Белого моря. До тончайшего слуха Орла донёсся странный шум в горах, он обернулся, подался с высоты к земле и вдруг увидел распростёртого на камне старого друга по жизни. И Рафаэль бросился к нему на помощь. Опустив лицо Амвросия в тёплый ключ, он стал разрывать когтями одежду монаха, открывая его грудь доступу воздуха и омывая из клюва водою. Амвросий, придя в себя, слегка приподнялся на локтях, увидев в зеркалье ключей отражение лица, залитое кровью, в голове ещё был сплошной туман ,и он не сразу осознавая, что это тени от цветов, сплетая плотный розовый узор, плескались в горных источниках.
– Рафаэль, я же не мышь какая-то, чтобы меня потрошить, – тихо сказал Амвросий, пытаясь сбросить с груди нахохлившуюся птицу, рвущую его одежду, – мой кафтан такой дорогой, я покупаю одежду на вес золота за морем, а ты столь неаккуратен с нею, – и он тяжело задышал, – отпусти меня, убери свои когти с моей груди, б р а т…
– Глупец, я вдыхаю в тебя новую жизнь, – он взмахнул крылом, – не представляешь, каких трудов мне стоило принести твое грузное тело на этот животворный гейзер, – Орёл оторвался от ткани кафтана, опустил когти в ключ, обмыл их, вода тотчас стала красной, после чего взлетел, кружась над Амвросием.
– Если бы я был главным монахом, находясь под Покровом Богородицы, то построил на этом месте наскальный монастырь, чтобы его купола отражались в огромном зеркале Белого моря, – птица снизилась на камень, рядом с дикими нарциссами.
Амвросий с трудом приподнявшись,сел, зачерпнул ладонью воды и пригоршней омыл себя, застонав от боли, его лицо было в ссадинах и кровоподтёках.
– О, Пресвятая Дева Мария, дай нам силы, – Орёл Рафаэль забил крылами.
Сознание Амвросия прояснилось, он осмотрелся, постепенно приходя в себя.
– Но, как ты, мой брат Рафаэль, почувствовал, что я падаю? – спросил тихо Амвросий, – ты же был далеко от меня.
– До моего слуха донеслось, как вздрогнули горы, потом рванул ветер с моря и закрутил смерчем, омыв скалы пенистой волной, так я понял, что ты в беде и возвратился, – ответил Орёл Рафаэль.
– Мне показалось, будто бы некто толкнул в спину, – морщась от боли, сказал Амвросий, –в последнее время я чувствую усталость, упадок биоток в организме. Возможно, штормовой ветер подхватил меня и понёс, а я не устоял, даже шест не помог, – владыка снова омыл лицо ключевой водой, – кажется, я потерял свою опору, этот шест, нет и свитка папируса, я даже слепну, всё туманится, не слышно шелеста моей услады Чёрного Гладиолуса.
Орёл хлопнул крылами, взлетая ввысь: – шест полетел вниз, монахи найдут его, а свиток же папируса ,покатившись, застрял в расщелине, я не успел его подхватить, – Орёл поднимался всё выше и выше.
– Вот уже поистине, даю вам, а вы взять не можете, – Амвросий усмехнулся, – нет всеукрепляющего шеста с золотым наконечником, и божья птица улетела, – Амвросий, тяжело вздыхая, перевернулся грузным телом и распластался спиной в озерце с водой из горного ключа, тотчас ощутив головокружение. Над его лицом раскачивался в порывах ветра самый высокий Нарцисс с крупным привенчиком, плотного розового цвета.
Хотя глаза Амвросия заволокла пелена, но силуэт цветка он мог различить. В порыве морского ветра владыка услышал шёпот: – я самый первый, чисто белый, слегка охваченный зарей, Нарцисс великолепный, редкая букашка вползёт на самый пик горы, нависшей над морем, редкая божья птица долетит, чтобы напиться воды из горного источника, – Амвросий понял, что белый Цветок одухотворён и сейчас продолжится откровенный с ним разговор:-
-Ты первый из братьев-монахов, кто чётко увидел мое отражение в животворящем источнике, ощутил дыхание, похожий на звон колокола, когда ветер на миг подгоняет наши соцветия, и мы встречаемся, позванивая, кланяясь в пояс, друг другу, сорви пару лепестков и приложи к ранам, они помогут обрести равновесие.
Амвросий вновь развернулся и приподнялся, потому что затылок припекало солнце, сорвал пару лепестков и приложил их к лицу, протёр соком, почувствовав в тот миг облегчение. Он встал на колени и зачерпнул ладонью пригоршню воды, плескавшуюся меж каменьев, где росли нарциссы, с жадностью выпил, у воды был сладковатый привкус. Высокий и самый чисто белый Нарцисс качнулся в сторону Амвросия, пытаясь поймать его взгляд, сам же экзарх был настолько удивлен новым соседством, да ещё неподалёку от его свободной обители, что вначале не мог собраться с мыслями.
– Я услышал в шёпоте лепестков, – после некоторого замешательства начал разговор владыка, – я услышал нечто загадочное про братьев-монахов, мой друг Нарцисс, давший мне силы, – я вижу у всех других цветов на горной поляне розовые подворотнички, а ты среди них один белый, хотя… хотя, и в твоём подворотничке, пожалуй, спряталась заря, – экзарх улыбнулся, – ты очень красив, Нарцисс Великолепный, возможно, у тебя есть имя? Я так думаю, что ты взошел на горной поляне из другой жизни, чтобы любоваться своим отражением в этих озерцах меж каменьев.
– В той жизни, а если быть точным, в ту весну, я был ещё монахом Филиппом, – и Белый Цветок качнулся в сторону лица Амвросия, словно ища своё отражение в его зрачках.
– Даже так! – удивился Амвросий, – значит, Орёл Рафаэль принёс меня на благодатную поляну пасхальных цветов? – владыка протёр лепестком губы, ощутив горьковатый привкус, – что же случилось с тобой, брат Филипп?
И Нарцисс Великолепный ,собравшись с мыслями, коих он долго держал в завязи бутонов до самой весны не заставил себя долго ждать.
- Исповедь монаха Филиппа,
обретшего покой на вершине горы. Если бы я мог это предвидеть, брат Амвросий. Наш мужской монастырь был по ту сторону гористых мест, на террасах ты построил свободную из белого камня обитель для страждущих в долине. В межгорье тот наш монастырь, маленький мужской, вылег по правую сторону горы, почти у самого Белого моря. Построил его монах Рафаэль. Отрешённую жизнь он начал где-то с 15-16 лет, возраст, когда юноша начинает задумываться о своем предназначении. Рафаэль жил в очень богатой семье, однако родители, прознав, что их единственный сын хочет стать монахом, отреклись от него и прокляли, сказав, что на их очаг легла печать Кентавра, возможно потому, что в то лето вся рожь в полях была перебита синим васильком, который посчитали за сорняк.
Однако это не остановило юношу, он примкнул к паломникам, следующим к Мраморному морю, на горе Афон занялся праведным трудом, заработал немного денег и на них с божьей помощью построил свой монастырь. Стал лечить больных, давал приют убогим, обиженным и пострадавшим в пути исканий за веру Христову, так возле него пригрелся и я, ещё другие братья-монахи. Настоятель был по натуре щедрым и раздаривал жемчуга своей души всем, кто приближался к нему.
В один весенний вечер, когда наступила пора цветения нарциссов, предвестников Пасхи, я вышел за стены обители в ожидании приезда настоятеля. Со стороны моря неожиданно я увидел навстречу мне скачущую лошадь, на ней лихо сидела наездница, припав лицом к гриве и обхватив за голову. Я же, поняв, что кобылка вот-вот может сбросить на камни юную особу, бросился навстречу, попытался схватить за поводья, но споткнулся прямо под копыта дикарки. Только случилось чудо, лошадь, заржав, резко встала на дыбы, сбросив барышню прямо в мои руки. Я увидел её белое тело, пахнущее весной, первыми нарциссами, во мне всё перевернулось внутри, голова пошла кругом от ощущения открытых девичьих прелестей.
– Я никогда не видела живого монаха, – девушка засмеялась, обхватив мою голову, взлохматив волосы, – какой потрясающе красивый парень, как зовут тебя, – спросила она, правда, наше знакомство выглядело несколько фривольно, но я молча снёс это.
– Филипп, – после некоторого замешательства сказал я, опуская барышню на землю и отходя на шаг, – я живу рядом, в монастыре Рафаэля.
– Ах! – засмеялась она, – всё побережье знает про того монаха, который наперекор своим богатым родителям построил монастырь на праведный взнос, он также красив, как и ты?
– Отец Рафаэль красив душою, ему посылает Покров Богородица, – я отстранился дальше, – так она была прекрасна, я решился спросить имя.
– Ты знаешь, Филипп, – она обняла голову лошадки и поцеловала гриву, – мне мама не разрешает чужим парням называть своё имя, – и она расхохоталась, но монаху я откроюсь, лишь поцелуй меня, как свою сестру.
– Но ты не сестра, моему смущению не было предела, – я… ц е л и б а т.
Девушка, меж тем, закричала на лошадь: – ляг! – и та послушно, поджав суставы, вытянулась на бок и замерла.
– Ты видишь, меня слушается даже лошадь, дикая, белая, она понимает меня с полуслова в отличие от тебя, Филипп!
Незнакомка придвинулась ко мне так близко, так пристально глянула в глаза, что стало не по себе: – я слышала, – сказала она, – об одном монахе, который даже кастрировал себя, но от этого ему стало ещё хуже , ведь кастрация ещё б^ольший грех.
Лошадь перевернулась на другой бок и вдруг заржала.
– Молчать! – девушка топнула ножкой, провела нежной ладонью по моей бороде, – какой красивый монах, пошли вместе в море, я лишь посмотрю на тебя, на твоё белое волосатое тело, – и она стала развязывать поясок на кафтане, – я никогда не знала мужчину-девственника, – её глаза смеялись.
Мне пришлось отстранить навязчивую особу, к тому же, чрезмерно любопытной до сути монашеской. Это ей не понравилось.
– Что?! Ты пренебрегаешь роскошным телом княжны? – она нахмурилась, я сделаю так, что ты будешь кататься в пыли с монашкой, самой страхалюкой, тощей и старой! – она хохотала на всё пространство, – я видела намедни двух бродячих монахов, которых выгнали из монастыря. Я спросила: за что? Один из них хмуро сказал: не поделили женщину! И не думай, я не привираю! – она взяла мою руку и провела по лицу, – если не хочешь такой участи, пошли со мной к морю, на закате, на волнах танцует розовая гладь, от которой расходятся лучи, так это мои феи прилетают, чтобы подготовить морские ванны.
– Но ты так и не сказала, – нашёлся я, пытаясь увести разговор, – как тебя зовут? С кем же я пойду к морю, с тобой, или с лошадью?
– И с той и с другой, – она смеялась, – я душистый Белый Нарцисс, белая женщина Калиса, правда, один презренный монах, которого я досаждала до белой горячки, называл меня вампиром, пьющим кровь. Калиса пуще прежнего развеселилась: – когда ты увидишь на белом нарциссе розовый ободок, знай, это кровь того монаха, который отказался утешить женщину играющей плотью, – она обошла меня со всех сторон, точно искушая, – ты же другой, ты молод и красив, ты чист, как белый нарцисс, зацветающий перед Пасхою, – Калиса топнула ножкою, прикрикнув на лошадь, – вперед!
Лошадка поднялась, стряхнула пыль и помчалась к морю. Может, я бы пошёл с Калисой к морю, так окутала она своими чарами, но случилось непредвиденное, мы не заметили, как развернулась машина настоятеля Рафаэля у монастырских ворот. Выйдя из автомобиля, отец Рафаэль окинул взглядом белую женщину, потом меня, как бы вопрошая взглядом: – кто она?
Я пожал плечами. Настоятель был также красив и молод, что вызвало
оживление у Калисы, она стала оглядывать нас, сравнивая… И у Рафаэля была окладистая чёрная борода, пышная шевелюра, в его глазах горел тот же фосфорический блеск, который свойственен одержимым идей братства. Став посреди нас, Калиса сказала: – я растворяюсь среди двух монахов, медленно проникая в суть каждого, кто же из них выберет меня?
– Что это за женщина, отец Филипп? – сурово переспросил настоятель, – почему она в таком неприличном виде оказалась у ворот мужского монастыря, в обнимку с тобой?
Я лишь пожал плечами, отстраняя от себя Калису, но её чары не отпускали и на расстояние, притягивая с большей силой.
Меж тем, Калиса опередила с ответом: – белая женщина, душистый чистый Нарцисс, – сказала она, – вот кто я, Рафаэль, мне пока нужно совсем мало, искупаться в море с монахом Филиппом.
– Зачем тебе купаться с монахом Филиппом, когда в округе много охотников до тебя, Калиса, – усмехнулся настоятель.
– Ты знаешь моё имя, монах? – спросила Калиса, подходя близко к Рафаэлю, пытаясь обнять его, – моя дикая кобылка случайно занесла сюда, хотя я много наслышалась о самом Рафаэле.
– Твоё имя, дитя, – настоятель отвёл её руку, – написано на твоём высоком лбу, да, ты действительно прекрасна, как Нарцисс, зацветающий перед Пасхой, – тихо сказал он, – у нас сейчас постные дни, приходи после Пасхи, мы найдём тебе утеху для развлечения.
– Настоятель монастыря не понял, – засмеялась Калиса, – монах нужен не для меня, я предпочитаю купаться в море одна, моя же первая фея, которая живёт на морской глади, однажды увидела монаха, купающегося в море, в чём мать родила, с тех пор потеряла покой. Она обливается горючими слезами, отчего море становится ещё холодней, ноги сводит судорога, а тело начинает биться в конвульсиях, и тогда один выход—зарыться в горячем белом песке. Ты же знаешь, что побережье всё усыпано мелкой галькой с каменьями, и в последнее время мужчины в этих местах не купаются, боятся застудить свои достоинства, – Калиса стала смеяться.
– Да что же это за монах, который купался перед феей обнажённым? – удивился настоятель, – я уверен, что в моей обители таких нет, это большой грех, и никто из моих людей на себя его не возьмет, я слишком хорошо всех знаю.
– Да нет! – Калиса ещё пуще хохотала, – не судите монаха так строго, фею на морской глади кроме меня никто не ощущает, но она видит всех, это же лучик, идущий от солнца. Тот бедный монах думал, что вокруг никого нет, потому сбросил с себя сутану, свернул платье и вошёл в море. Был очень жаркий день, и вода притягивала своей прохладой, в тот момент моя фея выплыла на поверхность, созерцая природу, и неожиданно увидела все мужские прелести, чуть не лишилась чувств от их естества. Искупавшись, тот монах вышел из моря, растёр тело полотенцем, оглядываясь, наверное, ему почудились чьи-то вздохи, но никого не было вокруг, он спешно оделся, и пошёл в гору, от его чёрного платья упала густая тень и накрыла фею. С той поры она мечется, ей нет покоя. Настоятель, удивлённый таким обстоятельством, покачал головой.
– Будь по твоему, белая женщина, – вдруг сказал отец Рафаэль, – я пойду с тобой к морю, а ты.., – он обернулся ко мне, – а ты, отец Филипп, отведи мою машину и задвинь на все запоры монастырские ворота.
Я засуетился, стал умолять настоятеля не быть таким опрометчивым, но он был непреклонен. Калиса от радости поцеловала настоятеля в бороду, свистнула лошади, та подогнулась под наездницей, женщина вскочила в седло и помчалась к морю. Рафаэль, ускоряя шаг, поспешил следом.
Лошадь с белой женщиной вскоре были окутаны лёгкой дымкою, виднелся лишь чёрный кафтан монаха, высвечивая силуэт тени. У самого берега туман рассеялся, и перед Рафаэлем открылась чистая гладь, на которой резвились лучики, от них зарябило в глазах, и настоятель прикрыл ладонью веки. Он понял, что высвечивались феи Калисы, однако отступать назад было не в правилах Рафаэля с самого раннего возраста, он присел на корточки, любуясь лучиками. Раздалось цоканье копыт, из тумана вырвалась лошадь с наездницей. Калиса придержала поводья и соскочила на берег.
– Куда ты смотришь, отец Рафаэль? – спросила, удивлённая Калиса, – почему ты гипнотизируешь моих прекрасных фей?
– Я вбираю в себя тени, – ответил Рафаэль, – ты права, белая женщина, пахнущая Нарциссом, на морскую гладь упала плотная тень, однако запах её мне не знаком. Купался не наш монах, я так думаю, это был очень юный и, по всей вероятности, к а т о л и к, я не чувствую запах ладанки, поняла меня?
– Что мне до твоей ладанки, – засмеялась Калиса, приблизившись и потянув за поясок, охвативший кафтан Рафаэля, – что за монахиня расшила тебе так красиво пояс, видать, она тебя любит?
– У меня нет монахинь в обители, – Рафаэль спокойно отвёл её руку, – я лечил страждущих от стрессов, наговоров, сглаза, готовил настойки из разных цветов, проник в ощущения многих запахов, но этот мне неведом, – Рафаэль помедлил, – пусть твоя фея что-то скажет, если я не могу видеть её, то хотя бы я должен услышать голос.
В тот самый миг морская гладь заволновалась, хотя не было ветра, и Калиса, не успев ответить на вопрос Рафаэля, всполошилась, ступив в море.
– Что случилось, моя любимая первая фея? – забеспокоилась белая женщина, – кто проник в твою суть? – и она взбила ладонью пену.
Внезапно тень качнулась, Рафаэль, видавший виды в поисках лучшей доли, отпрянул, задев платье Калисы, развевавшееся на ветру. Она вскрикнула, отдёрнула подол платья и монах на миг увидел ножки – это были копыта лошади. Рафаэль вздрогнул:
«Кентавр? – мелькнуло в голове, однако отступать было поздно. Калиса сорвала с себя платье и стала стегать им монаха по лицу с таким остервенением, что из его носа пошла кровь. Тень вырвалась на берег, и Рафаэль узрел в её густоте силуэт полулошади. В ту же самую минуту он почувствовал, как взлетает, шум крыльев оглушил его суть. Пространство закрутил шторм, окатил скалистое побережье пенистой волной, сбивая всё на пути; в те минуты я шёл по следу настоятеля, пытаясь овладеть ситуацией и чем-то помочь. Однако нас накрыла тень Кентавра, заколдовав всех обитателей монастыря, – так монахи потеряли человеческий облик, превратившись в нарциссы, а настоятель в Орла, поскольку он сумел подняться над своей сутью и взлететь….
- Владыка слушал исповедь Филиппа, присев на камень, так было лучше переносить боль в коленях, после излияний монаха, Амвросий поднялся, вздохнув, словно набирая в грудь горный воздух.
– Но это уже не такое сильное наказание, – сказал он после глубокого раздумья, – один из вас стал вещей птицей О р л о м, значит, в вашей монашеской сути было что-то такое, что не позволило превратить всех в гадких ползучих тварей, или пустоцветов, которые люди топчат ногами, вырывая их с корнем, – владыка выпрямился, – ты же, Филипп, превратился в пахучий Белый Нарцисс, а все монахи приняли облик тех же нарциссов, но только с розовыми привенчиками ,оказавшись в животворном ключе на самой вершине горы, это уже не так плохо. Божий промысел упал с небес на вас.
И ,после раздумья, добавил: – как жаль, что никто из вас не догадался нарвать букетик синих васильков и преподнести Кентавру в женском обличии.
Нарцисс Филипп качнулся к ладони Амвросия: – как бы там ни было, ни один из монастыря не хотел такой участи, какой бы красивой она не была уготована. Каждое утро Орёл Рафаэль прилетал к нам напиться из животворного источника, поскрести когти о камни. Филипп ещё ниже склонил головку цветка, глядя на своё отражение в озерце, – и мы будем нарциссами здесь до тех пор, пока не найдётся отчаянная душа, чтобы построить на этих камнях, на самом пике вершины, наскальный монастырь.
– Так вот почему Рафаэль ищет синий василёк? – Амвросий покачал головой, оглянувшись: – место здесь очень красивое, даже заманчивее чем то, на котором я 15 лет назад воздвиг свободную обитель, но здесь нужна большая сила и воля того, кто захочет пожертвовать всем ради спасения чьей-то души, – Амвросий усмехнулся, – я же стар, к тому же почти ослеп, цветок моей услады – Чёрный Гладиолус, поник от сотрясения тела при падении, нарушена субстанция его жизни.
Владыка омыл лицо ключевой водой, приласкал взглядом Нарцисса Филиппа. – Когда-то в молодости в переживаниях я построил свою церковь из одного намоленного камня на месте сгоревшего ветхого скита,но не учёл одной детали-
я не расследовал, почему сгорел скит, – Амвросий отжал полы платья и вышел из пространства, где росли нарциссы, продолжая рассказ, – может, это была моя первая ошибка. Следом за ней я совершил и вторую, по-видимому, я похож на того юнца в монашеском платье, который решил искупаться, думая, что побережье безлюдно, да нет, везде тебя поджидает искушение. В эту весну мой охранник увидел в горах красную аурикулу и предчувствие его не обмануло. Я получил удар в спину и упал, разбив лицо в кровь. К счастью, на помощь пришёл Орёл Рафаэль.
После паузы, добавил:- когда он прилетит сюда испить ключевой воды, передайте ему от меня низкий поклон, – Амвросий поцеловал край лепестка цветов, росших меж каменьев, прямо в озерцах, постоял у Нарцисса Филиппа...Поискал глазами шест, думая, может, он где-то затерялся в расщелинах, и, не заметив, прихрамывая, с трудом стал спускаться с горы в свою обитель.
- Муравей Муравеевич. Шла неделя крестопоклонения, третья неделя Великого поста перед Пасхой. Выносили крест, увитый цветами, целовали его, припав ниц. Воздвигали животворящий крест для букашек, насекомых, жучков, всех тех, кто выползает из земли, из коры деревьев, старых дупел.
«Надо же как, и о них, малых тварях, не забыл Господь», – так думала Эдит, целуя вместе со всеми знаковый крест. Меж разговорами она услышала, что Амвросий потерял свиток папируса в горах, разбил лицо в кровь, нарушив тем самым равновесие услады жизни – Чёрного Гладиолуса.
Эдит, несмотря на неуравновешенность характера и пылкость молодости, была ,по сути, очень доброй, и потому, узнав о душевных и физических болях владыки, очень расстроилась, решив ему помочь. Под вечер, когда букашки выползали из трещин земли, а под ногами рыхлились муравейники, она вышла на крутую горную тропу. Та же вывела художницу к мелководной речушке, впадающей в Белое море и перебитой острыми камнями. Впереди раскинулась просека с причудливыми сосенками, одна из них, обожжённая молнией, привлекла своей клейковиной. Отщипнув кусочек, Эдит бросила в рот, пытаясь утолить голод, но язык кто-то защекотал, оказалось, что в клейковине ютился большой старый Муравей Муравеевич.
– Спасибо, красавица, – сказал он, – что освободила меня от клея. Ради любопытства я залез в трухлявое дупло и весь испачкался так, что не смог выбраться.
– Вездесущий Муравей Муравеевич, помоги мне, – сказала Эдит, – ты повсюду ползаешь и всё про всех знаешь.
– Ты помогла мне, – ответил Муравей Муравеевич, – теперь моя очередь выручать, почему ты попала в этот бедлам?
– Я ищу свиток папируса Преосвященного Амвросия, в котором этюды о редчайшем цветке на земле – Чёрном Гладиолусе.
– Как-то по весне я прочитал рассказ о детстве экзарха, но там нет этюдов о Чёрном Гладиолусе.
– Дело в том, что Чёрный Гладиолус Амвросия – это его услада жизни, – ответила Эдит, – в те лунные часы, когда главный монах делает заметки на папирусе, живая плоть подпитывает цветок, росший в глазном дне, тем самым приводит в движение субстанцию мозга, переключая регистр мышления на осязание перевоплощения.
– Ты читала рукопись? – удивился Муравей Муравеевич.
– Не успела, однако потому, как прекрасны глаза Амвросия, как возбуждает плоть шелест цветка, можно предположить, что монашеская исповедь ещё красноречивее, – восторга Эдит не было предела.
– Ты всё про Амвросия, про себя ни слова, красавица, – Муравей Муравеевич стал щекотать её ладонь.
– Разве ты не знаешь? – она присела и сбросила земную тварь на травинку, – зовут Э д и т , я художница, будучи ещё юной вошла в тень монаха и так до сих пор нахожусь в ней, она меня притянула биотоками, поэтому я решила помочь Амвросию найти рукопись, труд целой жизни монаха.
– Ладно, обживайся на новом месте, а я побегаю с травки на травку, по бугоркам, может, что услышу, – Муравей Муравеевич вывел Эдит к дикой айве, подготовленной к цветению, и потому аромат захлёстывал пространство, – с тобой ещё кто-то в пути?
– За мной пошёл Луис, но мы, видно, разминулись, – сказала Эдит, – он хороший, это я плохая.
– Не люблю, когда люди делают проблему из пустяков, – в тон ответил Муравей Муравеевич, – у вас были последствия?
– Луис очень хороший, – вновь повторила Эдит, – это я плохая.
Эдит прислонилась спиной к стволу дерева, прикрыв веки, кто-то толкнул её в бок, она не двинулась с места, думая, что это щекочет досужий Муравей Муравеевич, толчок последовал ещё настойчивее.
– Ах, Луис! – воскликнула она, открыв глаза, – откуда ты вышел?
– Как и все, так и я, – засмеялся Луис, – я же шёл по твоему следу, лишь в последнюю секунду засмотрелся, а ты скрылась за сосенкой.
Эдит обняла Луиса, – я разговаривала с другом в облике старого Муравья Муравеевича, и попросила разыскать следы свитка папируса Амвросия.
– Владыка в шоке, он закрылся и ни с кем не разговаривает, – тихо сказал Луис, – я так понял, что для него важны две вещи: рукопись и Чёрный Гладиолус, его живая плоть, когда он, переключив регистр мышления, пишет философские размышления.
– Трепет ожидания вливает в нас соки жизни, – ответила Эдит, – а раз нет ни того ,ни другого, значит, это катастрофа, потому Амвросий закрылся и не общается ни с кем.
Послышался шорох, но ногам художницы пробежал ветерок и защекотал, Эдит неожиданно громко расхохоталась, впереди соринки пыжился знакомый друг, который что-то волок за собою. Всмотревшись, девушка заметила уголок блестящей бумаги, поёжившись, смахнула божью тварь в траву, однако на девичьей коже остался тот шуршащий кусочек, который тянул за собой Муравей Муравеевич .Художница взяла обрывочек бумаги в руки, всмотревшись, вдруг воскликнула: – браво, дружок, браво! Ты принёс нам кусочек папируса, на похожих полосках стебля главный монах пространства Белого моря писал размышления.
– Тогда надо спешить, Эдит, всё букашки, которые повылезали из трещин земли на праздник животворящего Креста ,могут полакомиться стеблями папируса ,и от трудов владыки Амвросия останется лишь пшик, – сказал Муравей Муравеевич, – может, это обычный кусочек стебелька папируса?
В разговор вступил и Луис, слегка склонив голову перед божьей тварью: – знаю только то, что одежда владыки соткана из папируса, его шиповки, в которых он восходит на пик горы, тоже из самых плотных стеблей папируса.
– Папирус растёт только в жарких тропиках, но здесь в гористой местности, вблизи побережья нам, муравьям, его встречать не приходилось, – ответил Муравей Муравеевич, – и это загадка наводит на мысль, что где-то близко рукопись Амвросия.
– Когда я впервые попала в тень монаха, то увидела, как охранник расчленял стебель очень высокого растения на полоски, позже я поняла, что это папирус, – она понюхала найденный кусочек блестящей бумаги, – к тому же я ощущаю и запах ладанки, значит, мы на правильном пути.
– Только кто-то из вас двоих последует за мной, – сказал Муравей Муравеевич, – отверстие очень маленькое в расщелине скалы, возможно, туда упала рукопись.
– Луис, это моя доля, – сказала Эдит, – а ты поспеши в обитель и обрадуй владыку, что мы напали на след его свитка.
– Не в моем характере оставлять женщину на произвол судьбы, – ответил Луис, но… – он развёл руками, – на всё воля божья.
Они обнялись, и юноша пожелал Эдит благополучного пути в поисках рукописи .Расстались на братском поцелуе, новый друг художницы шмыгнул в просеку, оставляя после себя лестницу из лесных собратьев, рядом ступала Эдит, боясь ненароком задеть своих новоявленных помощников. Пригнувшись, Эдит протиснулась через щель, где растрескалась скала, края её были тёмными, словно обгоревшими, быть может, сюда ударила молния и прожгла камень. Проникнув через отверстие следом за муравьиной лестницей, она неожиданно вскрикнула от удивления – перед ней раскинулась долина с дикими тюльпанами в розовых всполохах.
– Тише, леди, – тихо сказал Муравей Муравеевич, ползший впереди лестницы, – долина только пробуждается, не потревожь её равновесие.
Эдит присела на корточки, скрестив руки на груди от восхищения созерцания нового пространства, вот когда она пожалела, что оставила в обители свой планшет и пастельные карандаши. Такой густой сочный розовый цвет она видела впервые.
– Жалеешь, что нет красок? – спросил Муравей Муравеевич, касаясь нежной кожи Эдит.
– Какой ты догадливый, дружок, – Эдит попыталась его приласкать, но он перескочил по стеблю тюльпана прямо в высокую и узорчатую чашу. Несколько мгновений обитателя земли не было ни видно, ни слышно, вскоре лепесток тюльпановой чаши отогнулся, и Эдит узрела розовый мелок, возле которого на пестике покачивался хитрый Муравей Муравеевич.
– Какой ты приятный, дружок, – сказала Эдит, беря в руки розовый мелок.
– Чтоб ты знала, милая Эдит, и мы тоже художники, вначале на первой зорьке пробуждаются тюльпаны белых полутонов, потом мы, просыпаясь, начинаем разминку, купаясь в первых лучах, и потихоньку усиками, как бы кисточками, окрашиваем плоскость чаши в розовый цвет рассвета, – дружок подполз к руке Эдит и продолжил, – мой прадед рассказывал, что на Низкой земле, то есть в Голландии, два роскошных каменных дома были куплены за три тюльпановые луковицы, – после паузы Муравей Муравеевич неожиданно спросил у Эдит, – а ты знаешь, почему я такой большой, упитанный, не хочу себя называть жирным, – и он рассмеялся в усики, – и такой ч ё р н ы й?
Эдит, раскрашивая ногти розовым мелком, пожала плечами.
– Подними, красавица, свои глазки вверх, обрати внимание на тропу, увитую белыми тюльпанами с красными разводами, она ведёт вверх в гору и пропадает на скалистом выступе.
Эдит, оторвавшись от раскраски ногтей, привстала с земли и обмерла.
– О, боже… – прошептала художница в изумлении, всё горюя о том, что не взяла планшет с карандашами. Она устремилась вперед, раздвигая стебли тюльпанов, да так быстро, что Муравей Муравеевич с трудом мог за ней поспевать. Добежав до скалистого выступа, она остановилась, не зная как взобраться наверх, подъём был очень опасным. В углублении на выступе рос невиданной красоты Чёрный Тюльпан, олицетворяя таинственность сумерек и очарование звёздной ночи над горами, лишь тишину нарушал всплеск Белого моря.
– Какая прелесть, Чёрный Тюльпан! – воскликнула Эдит, – словно взобравшись на гору, епископ забыл свой чёрный клобук, подобной красоты я не видела в жизни!
Муравей Муравеевич тем временем вскарабкался на руку Эдит и стал её щекотать, однако она не смахнула его, наоборот, проявила внимание к тем своеобразным ласкам, в то же время, любуясь чашей Чёрного Тюльпана, похожего на монашеский головной убор. Новый дружок Эдит не заставил себя долго упрашивать. Муравей Муравеевич поведал легенду о рождении Чёрного Тюльпана – Монаха.
История Чёрного Тюльпана
Человек, не успев родиться, как Господь отмечает в своей приходской небесной книге данный факт, предопределяя его судьбу, хотя тот об этом ничего не ведает, так и мы, божьи твари. Мои предки родились здесь в Низине, между скалами, царствуя в тюльпановой среде и наслаждаясь божьей благодатью, морским воздухом. От луча солнца мы имели в подарок розовый мелок, и на первой зорьке каждый из нас упражнялся на шёлке лепестков тем мелком, раскрашивая чашу цветка. Но среди нас был один мечтатель, который сказал примерно следующее: я бы хотел открыть новый тюльпан с пепельным оттенком по вертикали плоскости чаши. Этим мечтателем был мой дед, тоже из числа больших и очень чёрных муравьев, из тех, что знают себе цену в пирамиде власти над собратьями. Он постоянно находился в чаше цветка, питаясь его нектаром. Ему нужен был всего лишь кусочек пепельного мелка и тогда дед обратился с просьбой к ночи, благоухающей свежестью: что ей стоит, такой длинной и всеобъемлющей, подарить на праздник животворящего Креста старому Муравью кусочек своей частички, тот самый пепельный мелок. Однако в ту пору ночи были такими тёмными и плотными, поглощавшие даже холодное мерцание самых ярких звёзд, что вокруг ни зги. И Муравью померещилось, что ночь подмигнула ему, сказав, дескать, ползи к расщелине, там, где обрывается поляна и поднимается в поднебесье отвесная скала.
Звёзд не было видно, но властвовала полная луна, заливая светом пространство ночи, словно наперекор тьме и указывающая путь к вершине. Всё было хорошо, Муравей дополз до пика горы над Белым морем, когда начался прилив, порыв ветра усилился, следом пространство озарила молния, и пронёсся гром с крупным дождём.
Он шёл плотной стеной наискось горы и в один порыв сбил старого Муравья, и тот покатился вниз. Однако успел зацепиться за соломинку меж сквозных трещин горной породы и приник, раздался новый, оглушительный раскат грома, камень обожгла молния, он растрескался, покрывшись чёрным слоем, точно пеплом, в котором и был замурован старый Муравей, мой дед мечтатель. Наутро, когда муравьи после обильного дождя повылезали из глубин розовых чаш тюльпанов, росших на Низкой земле, погреться на солнышке, то один из них, находившийся ближе к подошве горы, глянув вверх, воскликнул: – братья, из расщелины вышел тюльпан под цвет нашей кожи!
Все разом глянули вверх и замерли от удивления – действительно, на высоком стебле восседал крупного размера полубутон тюльпана-монаха, раскачиваясь чёрной, сверкающей под лучом солнца, митрой и словно отливаясь драгоценными на ней камнями.
Таково перевоплощение моего деда, – Муравей Муравеевич, поведав историю своей родословной, перевёл дух от длинного рассказа, – в хорошую погоду мы лазаем туда, понежиться в тени Чёрного Тюльпана, падающей от роскошной чаши, подышать ароматом. Только вереницей друг за дружкой, в одиночку опасно, Белое море, как и во времена деда, так и сейчас, не менее коварнее и непредсказуемее. Его штормовая волна в один миг может захлестнуть всех, кто попытается подняться на скалы и с вершины полюбоваться раздольным течением морской волны.
Эдит не отрывно смотрела вверх, лицо было безмятежно, как и само утро. Потрясённый чёрной аурой тюльпана, мозг художницы заиграл, воображение стало рисовать пространство чаши цветка.
– Смогу ли я подняться, подобраться ближе к тюльпану-монаху? – неожиданно спросила Эдит, – чёрный классический цвет Тюльпана – это открытие для меня.
– Навряд ли, даже если ты оденешь шиповки из папируса, то и в них не сумеешь подобраться к расщелине, где восседает дивный Чёрный Тюльпан, – Муравей Муравеевич, соскользнув на травинку, стал раскачиваться на ней, – даже если ты , поднявшись на гору, приблизишься, то плотная тень, падающая от митры Чёрного Тюльпана поглотит тебя, Эдит, и ты не сможешь выбраться, наши общие усилия помочь окажутся напрасными.
– Если предположить, что в чаше того дивного тюльпана свиток папируса Амвросия, то, как он попал туда? Не мог же простой муравей спрятать рукопись в чаше цветка?
– Дело в том, – продолжил Муравей Муравеевич, – Чёрный Тюльпан не обычный цвет, под покровом ночи из его глубокой чаши со дна выбирается монах и спускается в долину, подышать морским воздухом, здесь атмосфера пропитана озоном, повсюду благодать Низкой земли.
– Ты и впрямь видел монаха? – переспросила Эдит, – как он выглядит, как человек? Или.., или как Кентавр?
– Я лишь видел, как он запахивал полы кафтана,– сказал Муравей Муравеевич, – а если ты подойдешь ближе к подошве горы ночью, при блеске луны можно заметить отпечатки следов босых ног, значит, это не Кентавр, тот бы оставил след лошадиных копыт. Мне кажется, что это очень высокий монах, судя по его огромной тени, охватывающей всю долину. По слухам, гуляя ночью в долине, он и подобрал свиток папируса, скатившейся к нам. Порыв ветра ударил в спину Амвросия, а, может, хватанула некая сила, и он упал на грудь, хотя, неизвестно, как всё произошло на самом деле.
– Значит, наши усилия тщетны? – тихо переспросила Эдит, – до цветка явно не добраться, гора слишком отвесна, а ночью нас может поглотить тень отверженного монаха.
– Отчего же, – усмехнулся Муравей Муравеевич, – можно рискнуть, сплетём муравьиную лестницу, по ней ты поднимешься и будешь выжидать, когда выйдет из чаши монах и начнёт спускаться в долину, затем поможем проникнуть в глубину чаши Чёрного Тюльпана.
– Быть может, прячась от жары в чаше того цветка, – сказал Муравей Муравеевич, – тот монах читает рукопись владыки Амвросия?
– Как зовут того странного монаха, – Эдит не переставала удивляться, – предпочитавшего жить не в монастырской келье, а в чаше тюльпана и читать духовную рукопись?
– Белый звук однажды донёс нам имя монаха, – ответил он, – его зовут, по моим предположениям, А н ф и м, то есть покрытый цветами, откуда и вся суть его, – промолвил Муравей Муравеевич. – В лунную ночь его плотная тень, охватывающая не только нашу долину, но и часть пространства Белого моря, как бы оживает, пытаясь охладить плоть.
– Да, тут я с тобой согласна, – тихо сказала Эдит, – гордыня и плоть, вот что иссушает нас повсюду, – и после паузы она продолжила, – как бы мне пообщаться с тем загадочным Анфимом?
– Дождёмся вечера, дорогая Эдит, – сказал Муравей Муравеевич, – и как только твоё чуткое ушко уловит в воздухе чёрный звук, ты начнёшь подниматься в гору по муравьиной лестнице с моими собратьями, – он коснулся кожи художницы, – хотя, это очень опасная прогулка, если твоя поступь чуть вздрогнет при восхождении, то прощай молодая жизнь.
– Я люблю риск, он подпитывает воображение, возбуждает плоть, я же ведь тоже человек! – и Эдит засмеялась.
– Учти, Эдит, – назидательно ответил Муравей Муравеевич, – сейчас монах пребывает в глубоком посте, великом и всеохватывающем душу и тело, перед Пасхою. Смотри, какая густая тень скользит от Чёрного Тюльпана, даже в полдень, находясь в той тени, можно замёрзнуть, это от того, что монах отрешается от всего, общаясь с Богородицей, только её ощущает Лик.
– Я пойду на риск, такова моя воля, – сказала твёрдо Эдит, – священнику всегда надо что-то дать, так завещала мать, а тем более монаху, – она улыбнулась, – может, нарвать Анфиму букетик из белых подлесок, я видела их, расселённых в самом начале Низкой земли.
– Можно и букетик примулок, – ответил Муравей Муравеевич, но более одухотворённый подарок – это сосуд с вином из одуванчиков, мы готовим его по рецепту долгожителей британских островов, о таком вине может лишь мечтать сама английская королева.
– Я же не видела здесь ни одного лукавого одуванчика, милый Муравей Муравеевич, – насмешливо сказала Эдит.
– Ты прошла не по той тропе к нам, а вот когда поднимешься по муравьиной вертикали в саму гору, то на востоке долины увидишь целый штат этих жёлтых баринов, зевающих на солнце и пьющих кофейный напиток из собственных корней, – усмехнулся Муравей Муравеевич, ладно, я оставлю тебя на миг, Эдит. Соберись с силами, а я приготовлю тебе что-то вкусненькое, – с этими словами Муравей Муравеевич соскользнул с ладони Эдит и пропал в густой траве.
Девушка прилегла в тени, падающей с вершины горы, и незаметно для себя уснула. Меж тем, названный брат, растревожив муравьиное царство, начал сооружать эстакаду по вертикали в гору к пространству Чёрного Тюльпана. Эдит спала так сладко, что Муравей Муравеевич вместе с собратьями решил подшутить над художницей, обвив её тело муравьиною сеткою, они стали подтягивать ношу в гору. Солнце клонилось к закату, пик скалистых гор и Белое море переливались в малиновых тонах, муравьиная команда была почти у цели, как вдруг пространство встревожил зычный голос, слегка хрипловатый, от которого проснулась художница, увидев себя обнесённой сеткой почти на самой вершине.
– Охрана Чёрного Тюльпана! – раздалось громко, – охрана Чёрного Тюльпана!
С помощью сетки Эдит держалась на отвесной поверхности, пытаясь развернуться.
– Будь осторожна в действиях, Эдит, – услышала она знакомый шёпот дружка, – впереди светящийся корень Женьшень, рождённый от молнии, охранник Чёрного Тюльпана, не сбрасывай с лица сетку, в ней ты недосягаема энергии светящегося корня.
Роскошная чаша цветка испускала аромат, вблизи Чёрный Тюльпан казался ещё более величественным, от его созерцания Эдит стало не по себе. У неё слегка закружилась голова, а тончайший запах, витающий вокруг бутона в чёрной митре, подтверждал то, что перед художницей действительно дивный цвет, сотворённый самой природой, а не, к примеру, выращенный Кентавром.
Сумерки сгущались, однако лепестки чаши не смыкались, толстый стебель слегка покачивался. Цветок распахивался всё шире, в какую-то минуту мощное соцветие вздрогнуло, затем от пика вершины до основания горы прошёл такой гул, что Эдит съёжилась, прижав к груди муравьиную кольчугу ,что и спасло от падения; на Белое море со стороны скал упала густая тень, словно внезапно наступила глубокая ночь. Соцветие, качнувшись, припало чашей к плоскости скалы, из глубины вырвался чёрный шлейф, разметавшийся по пространству, обдав лицо художницы жаром. В тот самый миг напротив Эдит вырос очень высокий монах в сверкающем облачении, она вздрогнула и замерла.
–Повезло, дитя, – глухо сказал он, – что я заметил тебя, выходя из глубины чаши цветка, муравей упал мне на руку и защекотал, – он засмеялся, – я с детства боюсь муравьёв! – монах приподнял Эдит и, поддерживая за локоть, попытался снять с лица сетку. Тогда муравьи стали щекотать монаха ещё сильнее ,и тот был вынужден отпустить девушку.
– Я ищу свиток папируса Преосвященного Амвросия, – тихо сказала Эдит, натягивая на лицо сетку, – других целей у меня нет. Я же бедная художница, зарабатывающая себе на хлеб рисованием с натуры, но когда я узнала, что владыка Амвросий попал в беду, то решила ему помочь, так мама меня учила с детства – помогать тем, кто попал в беду, особенно монахам.
– Я вижу, что ты бесхитростная, – сказал монах Анфим, – он выпрямился, его тень заиграла в лучах уходящего на покой солнца, отчего покров на Белом море казался красным, – я подхватил свиток папируса на ветру, когда ранним утром, приняв морской моцион, входил в свою цветочную обитель, в глубину чаши Чёрного Тюльпана, где я усмиряю гордыню, – монах помедлил. – Бог дал мне отдушину. Уединившись в глубине чаши от суеты, я начал читать ту духовную рукопись, хотя время свитков папируса давно миновало, но это мне было интересно. Мысли Амвросия где-то созвучны и моим, только я не могу их выразить на бумаге, – монах присел под чашей цветка, раскинув шлейф, рывком поправив митру .В тот самый миг он походил на большой отросток, отпочковавшийся от того мощного соцветия, росшего на вершине.
– Владыка послал тебя искать рукопись? – спросил Анфим.
– Нет, он даже не знает, что я в пути, да и кто я для Амвросия? –сказала Эдит, – просто, это мой подарок человеку, не похожему на всех.
– Даже так? – удивился монах, – тогда ты влюблена в него, и он в плену греха, даже сквозь муравьиную кольчугу я вижу, как симметрична твоя стать.
– Боже упаси! – Эдит слегка приоткрыла сетку, – меня привлекает то, что не понимаю, лишь стоит ощутить предмет в его сути, цветок, зверя или человека, я теряю интерес ,и мой карандаш начинает крошиться.
Сумерки плотнее обволакивали горы и море, с поверхности которого повалил густой туман, но, касаясь пятачка земли, где рос Чёрный Тюльпан, ставший приютом монаха Анфима, усмирявшего гордыню, он рассеивался, рядом же, светился цветущий Женьшень, охраняющий цветок, и стоило Эдит сделать неосторожное движение, как от поверхности разлетались искры, предупреждая об опасности.
Неожиданно в пространстве наступила тишина, лишь чёрный звук, опоясавший склоны горы, господствовал в ней ,и Эдит почувствовала, как пересохло в горле. Тогда она вспомнила напутствие Муравья Муравеевича – каждый раз меняться, притом не забывать о главном. Она вспомнила о сосуде с животворящим напитком, жёлтым вином из одуванчиков, один глоток которого приводит в трепет и оживляет угасшую ткань материи в человеческой субстанции. Эдит развернулась в сетке и подхватила сосуд, пригнувшись, отвинтила крышку и пригубила глоток холодного напитка, почувствовав бодрость. Монах же, приготовившийся к прыжку, выпрямился и повёл ноздрями, втягивая странно знакомый ему запах.
– Я ощутил запах своей родины, – вдруг сказал Анфим и поддался вперёд к Эдит, – так пахнут цветы моего детства, милые одуванчики.
– Вы не ошиблись, – сказала Эдит,– я подкрепилась глотком жёлтого вина из одуванчиков, отец Анфим, чтобы просчитать ситуацию, в которую забросила меня судьба в поисках свитка Преосвященного Амвросия.
– Как бы там ни было, дитя, – ответил монах, – но на ночь в Чёрный Тюльпан не вернусь, сейчас он смыкает свои лепестки, тебе же остаётся поднатужиться и пригнуть к земле цвет, пока он в полудрёме, в один миг из зева чаши выпадет свиток папируса.
– Что?! – возмущению Эдит не было предела, –испортить стебель, лишив всю Низкую землю, моих друзей от созерцания такой дивной красоты? Да муравьи меня не поймут, разве нет другого выхода вывести из чаши цветка рукопись владыки?
– Тогда жди до утра, – Анфим усмехнулся,– когда цветок начнет приоткрываться. Ты же высокая по симметрии, так что рука дотянется до рукописи, она на дне чаши.
– И это рискованно,– ответила Эдит, – у молодых ножек тоже есть предел выносливости, а утром по первому лучу, когда станет пригревать солнышко, муравьи начнут разбегаться, и рухнет эстакада, уж тогда я точно буду замурована здесь навеки, – Эдит приподняла сетку и протянула монаху сосуд с напитком, – выпейте за царство небесное моей матери, как жаль, что она не дожила до такого счастливого момента, увидеть меня в общении с большими монахами пространства Белого моря, господами таких дивных цветов природы – Чёрного Гладиолуса и Чёрного Тюльпана.
Монах принял сосуд, вобрал в себя содержимое его, потом завинтил крышку – а я вот не знаю своей матери, – он вздохнул, – меня нашли монашки в одуванчиках вблизи женского монастыря, при котором я и вырос, потому моё имя А н ф и м, то есть покрытый цветами. Впоследствии я совершил г р е х, и чтобы искупить вину, выбрал для себя кару, заточил в чашу Чёрного Тюльпана, лишь выхожу на ночь размять суставы.
– Да что это за грех такой, – удивилась Эдит, – чтобы так наказать себя, Анфим? По виду, ты ещё такой молодой.
– Грех рождается раньше тебя, разве не знаешь Эдит? – сказал он, – и выжидает удобного момента, чтобы проявить себя.
– Замешана женщина? – переспросила девушка.
Монах лишь шумно вздохнул и отвернулся в сторону моря.
– И как звали ту? – Эдит была настойчива.
– В а н д е л а, – тихо ответил Анфим,– я встретил её на Низкой земле после того, как стал чёрным монахом.
– В а н д е л а? – так же раздельно повторила Эдит, – какое странное женское имя, скорее всего тебя смутило имя?
– Она была голландка, восхитительная жёлтая роза, прекрасный цветок земли, аромат которого напомнил это вино из одуванчиков.
– Выходит, Вандела была блондинка, – засмеялась Эдит, чтоб ты знал, Анфим, блондинки ещё коварнее брюнеток, особенно если они крашенные.
– Да нет, она была натуральная и очень яркая, эффектная, я бы сказал, – улыбнулся Анфим – это я виноват, она переступила порог церкви в один из постов, тогда я проводил службы по три в день, было очень тяжело, болела поясница от длительного стояния на ногах. Но в тот миг я вышел во двор, заканчивалась служба, чтобы нарезать одуванчиков для настоятеля, из стеблей я готовил духовнику вкусный и питательный салат, а шапочки заливал водой и настаивал, когда те начинали бродить, сцеживал воду и давал отстояться, так получался напиток, по аромату нечто похожий на тот, что у тебя в сосуде.
– Так вот почему ты вздрогнул и повернулся в мою сторону, сразу открывшись для разговора, когда я пригубила для бодрости свой напиток, – она смеялась.
– Я узнал его коварный запах, дорогая Эдит, – сказал монах, – именно запахи смущают наши души, они хуже яда, порою.
– Но ты ушёл от главного, – сказала Эдит, – когда в церковь ступила та краля, Вандела, чтоже случилось?
Монах смутился: – это слишком личное, Эдит, как-нибудь в другой раз, если пересекутся снова наши тропы, и они будут более удобными.
– Ясно, – усмехнулась девушка, – будь по-твоему, значит, и духовник любил вино из одуванчиков?
– В его трапезной рос цветок, прирученный к комнатным условиям, папирус, корни которого он выкопал в озёрной заводи, потом рассадил, но принялся лишь один, только по-моему, от него пошли все наши беды.
– Как могут быть беды от цветов? – засмеялась Эдит, – я видела домашний папирус и у Его Преосвященства, правда, он погиб, потому что монашка Евлампия в отсутствие владыки заполивала и колос заплесневел.
– Ну, вот видишь, погиб папирус, следом затерялась рукопись, – сказал Анфим, – разве это не беды?
– Да нет, рукопись выпала из рук Амвросия, когда он поднимался в гору, владыка споткнулся и ударился о камень, – Эдит слегка отодвинула от себя муравиьную сетку, – так что.., папирус тут не при чем, хотя, – она помедлила, – в каждом цветке есть загадка. Однажды мама, – девушка перекрестилась, – царство ей небесное, хотела обломить часть разросшегося кактуса и закрывающего окно так, что он мешал задёргивать штору, но укололась его острым шипом. Боль оказалась такой невыносимой, что она подставила руку под струю проточной холодной воды, и ладонь тотчас свела судорга, – Эдит разнервничалась, – в цветах сокрыта энергия, которая, вероятно, мстит человеку за насилие над ним.
– Я рад, что ты понимаешь меня, – Анфим провёл ладонь сквозь муравьиную сетку и взял сосуд с вином из одуванчиков, пригнул и отпил из горлышка пару глотков напитка бодрости, и этого было достаточно, чтобы монах словно прошёл сквозь ушко иглы – чудо преображения.
– Я нашёл выход, Эдит! – воскликнул Анфим, – ты когда-нибудь видела, как цветёт папирус?
Эдит покачала головой: – я читала о папирусе, но не видела.
– Этот божественный цветок, кроме всех его пригодностей в быту и по хозяйству,–сказал Анфим, – он выбрасывает огромный колос, распускающийся к утру, словно под коричневой вуалью каждый его цветок в колосе. В одну ночь, когда раздался телефонный звонок, мы работали с архимандритом над одним трактатом. Скажем так, наместника величали отец Кирилл, тот встрепенулся, посмотрел на меня, звонок был очень поздний, в три часа ночи, по всей вероятности он не хотел, чтобы я слышал разговор, и попросил меня принести из погреба вина из одуванчиков. Войдя через некоторое время снова в его покои, я застал отца Кирилла за ещё более странным занятием, он припал на колено перед папирусом, который расцвёл на наших глазах, и расправлял его колос. Не оборачиваясь, он взял кувшин и обрызгал каждое соцветие в том мощном колосе каплями жёлтого вина, – Анфим неожиданно заволновался, скрестил руки на груди, – я увидел в тот миг, Эдит, нечто невероятное, чудо из чудес. Колос весь раздался, словно прошёл звон, каждый полубутон в колосе распахнулся в полную силу, редчайшей окраски – коричневой, отец Кирилл срезал колос под самое основание, быстро вышел, набрасывая на ходу мантию, завёл машину и вскоре исчез в ночи.
– Я знаю женщин,– сказала Эдит, – которые безумно любят коричневые цветы, нет сомнения, что тот странный ночной звонок архимандриту был от женщины, может, она была ему дорога?
– Да ты понимаешь меня превратно, Эдит, – усмехнулся Анфим, – в вине из одуванчиков столько биотоков, которые способны заставить каждое соцветие раскрыться, даже ночью, когда природа спит.
– И куда же уехал, на ночь глядя, отец Кирилл с цветущим красавцем папирусом? – удивлению Эдит не было предела.
– На этот вопрос я не могу тебе ответить, Эдит, – тихо сказал Анфим, – настоятель не был открыт даже для меня, после этого начались все беды. – Он шумно вздохнул,- я лишь намекнул на то, что биотоки вина из одуванчиков способны заставить ночью раскрыться Чёрный Тюльпан, на дне его чаши лежит заветная рукопись, которую я нашёл в расщелине и знакомился с ней на досуге.
– Но охрана не спит, – сказала Эдит, – светлячок Женьшеня не спускает с нас глаз, если он всё видит, то может, и всё слышит?
– Возможно, – сказал Анфим, – я помогу тебе, Эдит, постараюсь сам достать из глубины чаши Чёрного Тюльпана свиток папируса Преосвященного Амвросия.
Эдит не заставила себя долго уговаривать, и поспешила поменять положение тела, упругостью которого она и удерживалась на выступе. В тот самый миг светлячок Женьшеня осыпал художницу искрами, она лишь вскрикнула, испугавшись ожогов на лице, но спасла муравьиная сетка, позволившая ей снова обрести равновесие.
Меж тем, монах Анфим, пригубив вина из одуванчиков, обрызгал и чашу Чёрного Тюльпана, под воздействием биотоков она мгновенно распахнулась, но с таким шумом, что задрожали горы, поднялись волны, и окатили горы мощной пенистой волной, пространство скал почти до самой вершины. Сильные брызги задели чашу цветка, она распласталась, открывшись до глубины зева, на дне которого сверкнул свиток папируса, Эдит рванулась вперед, перед ней мелькнул страстно молящийся Анфим.
– О, Пресвятая Богородица, спасибо, ты послала мне чудо преображения, спасибо, Пресвятая Богородица, – шептал Анфим, ползая на коленях и целуя каждый опавший лепесток чёрной тюльпановой чаши.
Грозный прилив Белого моря окатил вершину скал, сбил светлячок Женьшеня и, закрутив его, понёс по пространству, Эдит удалось развернуться в муравьиной сетке, благодаря которой и устояла под порывом штормовой волны; подтянувшись, она вытянула со дна чаши рукопись Амвросия. Шум волны растревожил муравьёв, они засуетились в сетке, стали щекотать Эдит, спрашивая, что случилось, почему так похолодало в пространстве, разом потянув эстакаду в Низину, она даже не успела в последний раз взглянуть на разбросанный в лепестках Чёрный Тюльпан. Перед глазами плыл туман, качало из стороны в сторону; муравьиная сетка тянула вниз, где-то на полпути она была разорвана новой мощной волной, и Эдит припала спиной к наскальной поверхности, прижимая к груди рукопись, и по инерции скатилась в долину.
На Низкой земле все спали, не ведая, что случилось на вершине скалистых гор, где обитал Чёрный Тюльпан. Осталось чувство сожаления, что не успела коснуться края одежды монаха Анфима, вернувшего ей заветный свиток папируса. Лишь спустя годы Эдит узнает, куда глубокой ночью уехал архимандрит, перед ней раскроется новая легенда о мощном коричневом колосе папируса, который унёс глубокой ночью отец Кирилл, и почему монах Анфим в наказание за гордыню был заточён в чашу Чёрного Тюльпана.
Попрощавшись с друзьями из муравьиного царства, Эдит вышла на тропу свободной обители, неся Преосвященному Амвросию радостную весть о преображении на Низкой земле.
- Записка Марии. Ближе к заходу Белое море выглядело притихшим и абсолютно безлюдным, таким оно больше всего нравилось юной художнице. Устроившись возле каменного выступа, разбросав планшет и несколько листов бумаги, Эдит искала цвет пастельного карандаша, ей хотелось воплотить даль Белого моря, его штиль в бирюзовых тонах. Однако уже со спины она ощутила чье-то присутствие на побережье, оглянувшись, вздрогнула, увидев на последней ступеньке каменной лестницы, ведущей к морю, широкую спину в кафтане небесного цвета, опоясанную расшитым поясом. В силуэте со спины Эдит узнала Амвросия и тотчас, развернувшись планшетом, начала делать набросок; владыка только вошёл в море прямо в одежде, лишь какой-то посторонний звук заставил его обернуться. Он, вздохнув, наклонился и омыл лицо морской водой. Эдит, осмелев, подошла ближе, держа в руке планшет с карандашом, пытаясь уловить в лице Амвросия характерный штрих.
– Здравствуйте, – тихо сказала она.
Он лишь кивнул в ответ, зачерпнув новую пригоршню воды и бросив на лицо.
– У вас коричневые глаза, владыка, – сказала Эдит, несколько смущённая холодным тоном.
– Ну, допустим, не коричневые, а карие, – он усмехнулся и ступил в море.
– Я путаю цвета красок с цветом глаз, – сказала она.
Волна накрыла Амвросия по пояс.
– Вы так и купаетесь в одежде? – удивилась Эдит, – можете меня не стесняться, я же смотрю на вас как на произведение искусства.
– Для тебя так важно, в чем я купаюсь? – он усмехнулся, – мне не нравится, что ты снова входишь в моё пространство, хотя я признателен за рукопись, Эдит, но это не меняет наши отношения.
– Да я же пришла первая, – сказала Эдит, – и совсем не знала, что и вы здесь появитесь, – она лихорадочно рисовала тень, упавшую со спины главного монаха свободной обители.
– У Луиса Чёрный цветок, дающий жизнь, ты должна это помнить, Эдит, подходить ко всему философски, – он развернулся к художнице мощным корпусом, – я же дал обет безбрачия и потому заточил свой цветок, усладу жизни, Чёрный Гладиолус в десницы. Корни его тянут мою плоть, наполняясь соками, которые и помогают писать знакомую тебе Книгу, – Амвросий слегка коснулся волос Эдит. – Лилия женщины не может отпочковаться без прикосновения к ней Чёрного цветка, она мертва, ибо в ней нет его подпитки соками, дающих жизнь, без него не распустится бутон лилии, нет аромата в соцветии, всё мертво и пусто.
Амвросий развернулся к художнице, и его карие глаза смеялись, однако, пожалуй, в эту минуту они были почти чёрными.
– Вы правы, всё пусто и мертво, – Эдит промолвила скороговоркой, стушевавшись от пристального взгляда владыки, – у вас была женщина?
Тот засмеялся: – ну, она не только была, она и есть, она всегда со мной.
– Что?! – удивлению Эдит не было предела, – но я никогда не видела её в обители, я никогда не слышала о ней.
– Ты плохо смотришь, Эдит, – Амвросий тихо смеялся, – а ещё хуже, не слышишь, это от того, что ты не умеешь правильно молиться.
– Ладно, – она смутилась, – молитвы меня утомляют, это мой грех, – помедлив, спросила, – ну, а как же зовут ту, которую я не вижу и не слышу?!
– М а р и я, – раздельно и спокойно промолвил он.
– Мария? – удивилась Эдит, – вот те раз, но в монастыре я не встречала женщин с именем Мария.
– Напротив, всё в обители пронизано лучезарным светом Марии, – владыка покачал головой, приоткрыл отворот кафтана и вынул оттуда букетик горной аурикулы. – Вот видишь, – сказал он, – в пути к морю, через кедровый лес, который пересекает горы с левой стороны, мне встретилась старушка и протянула записку от Марии, – он понюхал цветы, вдыхая аромат, потом вновь спрятал в пазуху, его лицо всё более и более просветвлялось, – это записка из моего детства.
– Записка от Марии на лепестках горной аурикулы? – переспросила Эдит, – и что же на них написано?
– Ты любишь читать чужие записки? – спросил он, смеясь над наивностью художницы.
Амвросий отжал полы кафтана, прошёлся вдоль берега, вдыхая на полную грудь морской воздух, обогнул выступ и ступил опять в воду.
– Я даже вашу рукопись не читала, – тихо сказала Эдит, – хотя могла бы, ведь вас не было тогда со мной.
– Я верю, – он развернулся ближе к художнице, – если нет ключа к тайне обновления, всё в конечном итоге может пойти прахом, – сказал он с грустью в голосе, – то, что случилось с Анфимом, который выбрал для себя такое суровое испытание, заточив гордыню в чаше Чёрного Тюльпана. Твоя легенда поиска рукописи придали мне уверенность, что всё только на пути к обновлению.
Эдит пожала плечами, удивлённая неожиданной сменой настроения Амвросия: – я помню, Анфим припал на колено и молился. Я же сильным порывом ветра с морскими брызгами была опрокинута на спину и так сползала с горы, – Эдит улыбнулась. – Я спрятала мгновенно рукопись под блузу, – и она встряхнула высокой грудью, – отсюда ничего никогда не выпадает, она же лежала под вашим крестом, владыка, – и Эдит коснулась одежды Амвросия, – кого, как не вас мне благодарить за всё.
– Теперь это твоя ноша, – он осенил Эдит крестным знамением, думаю, что отец Анфим испытывал блаженство, раз молился перед распахнутой чашей Чёрного Тюльпана. Возвышенные молитвы они, как правило, принимаются богом, выходит, Анфим молился правильно, раз ты добралась до своей обители живой и невредимой, да ещё с рукописью, – владыка раздвинул волны. – Я уже стар, Эдит, и тебе не следует постоянно искать мою тень.– Он заходил в море всё дальше и глубже, – моя услада жизни – Чёрный Гладиолус потрёпан в пути исканий истины, соки его, энергию плоти я вложил в знакомую тебе Книгу, образ мыслей которой, думаю, не столь понятен юной девушке, – он, взмахнув руками, нырнул, скрывшись под крутой пенистой волной.
Амвросий поплыл под водой к скалистому острову, который давно облюбовал для своих новых упражнений, пытаясь проникнуть в его глубину и обследовать незнакомое пространство, но всё что-то мешало, то ли надвигающийся на горизонте шторм, или гроза с ливнями, и он никак не мог довести начатое дело до конца.
Проводив Амвросия взглядом, Эдит собрала бумагу, карандаши и бросила в планшет, что-то испортило ей настроение, хотя особых причин для грусти не было. Эдит вышла на тропу меж склонов каменистого побережья, одну из тех, что накоротке вела к обители. По дороге она встретила Луиса, который, стоя на коленях, разрыхлял каменистую почву и вытягивал корни растения причудливой формы, напоминающих маленьких человечков.
– Луис, – воскликнула она, – как я рада тебя встретить! Что за странное занятие ты выбрал для себя? – она обняла его со спины.
– Рою волшебный корень, – он вытер руки о полу кафтана, – для Его Преосвященства н е ч т о, дающее вечную молодость.
Эдит всплеснула руками: – как ты нашёл этот корень? – она всмотрелась, – похож на мандрагору, восточный женьшень, – она вздохнула, – хотя в любви помогает только любовь.
– Что так грустно сегодня, Эдит? – Луис очистил корни от земли, обмотав их чистой тряпицей.
– Я только что узнала, что женщину Амвросия зовут М а р и я, и она пишет ему записки на лепестках дикой примулы, что растёт меж склонами в горах.
– Ну что мне с тобой делать, Эдит! – Луис рассмеялся, – М а р и е й, Её Лучезарным Светом дышит всё пространство Белого моря, даже эта дикая мандрагора пропитана дыханием божественной силы, – эта женщина- Мать Иисуса, вознесённая на небеса после смерти, это же Приснодева Мария!
– О боже! – Эдит села на землю в изнеможении, – ты уверен? – она обняла колени Луиса,- похвала глупости!.
– Как в самом себе, – Луис тоже присел рядом и стал приглаживать волосы Эдит, растрепавшиеся на ветру.
Они обнялись, солнце бросало на землю свои последние мягкие лучи, играя в белой розе Эдит. Не раздумывая более, она стянула через голову блузу и прижала к себе Луиса.
– Ну, рассказывай, – шептали губы Эдит, – рассказывай…
– Что рассказывать? – Луис улыбался, – ты опять меня сбила с пути, Эдит, я должен отнести корень мандрагоры в обитель.
– Рассказывай о Марии, – тихо говорила Эдит, – а корень отнесём уже вместе, ночью через горы одному опасно ходить, может встретиться Кентавр, иногда он принимает облик женщины, что вдвойне опасно.
Луис засмеялся, поднял с земли блузу Эдит и прикрыл обнажённую грудь. Свой рассказ он начал издалека.
- «Ты ушла искать свиток папируса, Книгу Монаха, а я, чтобы выразить как-то благодарность за то, что владыка приютил меня, напутствовал всячески по жизни, отправился на поиски Чёрного Гладиолуса, который при сотрясении, когда упал Амвросий от удара в спину, был поражён в стебле и зачах на корню. Однажды в погожий день я вышел к морю, был штиль, и еле заметная зыбь играла лазурью. Неожиданно ко мне шагнула женщина, откуда она вышла, я так и не понял, то ли с гор, то ли со стороны моря, платье и волосы красавицы были фиолетовыми, в тон седьмого цвета радуги, опоясавшей всё пространство над Белым морем.
– Ты ищешь Чёрный Гладиолус? – спросила она резко.
– Как вы узнали? – ответил я, поражённый неземной красотой, высоким ростом, роскошные волосы рассыпались по спине до самых щиколоток.
– По монашеской одежде, – сказал она отрывисто.
– Я ещё не монах, – ответил ей, – лишь прислуживаю в свободной обители, что по ту сторону гор, владыке Амвросию.
– А.., это тот с л е п о й, с пелёнок влюблённый в М а р и ю, – и она расхохоталась, – хотя, меня тоже зовут Марией.
– Почему вы решили, что Амвросий с л е п о й? – не зная как поступить, то ли уйти, то ли продолжить разговор дальше.
– Почему с л е п о й? – она продолжала смеяться, – потому что он с детства смотрел на меня, но сквозь меня, не видел земной красоты, моего блеска в глазах, как они вспыхивали, устремляя взор в сторону…
– Вы знаете владыку Амвросия? – я не переставал удивляться.
– Я же сказала, – ответила она сурово, – с самого раннего детства, он лишил меня услады жизни, Чёрного Гладиолуса, теперь я, как и ты, ищу Чёрный цветок вдоль побережья Белого моря.
– Вы хотите сказать, что Амвросий в детстве был вором? – переспросил я, – правильно ли я вас понял, Мария?
– Одной лунной ночью он выкопал в моем саду клубень любимого цветка Чёрного Гладиолуса, запёк его в тесте и съел на моих глазах, с тех пор мой сад опустел, в нём не шумит, как раньше, когда приходит пора цветения гладиолусов, мой самый дорогой цветок, услаждающий душу и тело, Чёрный Гладиолус.
– Вы так странно говорите, Мария, – ответил я, – не лучше ли обратить свои слова негодования ему, самому, он служит по ту сторону Белого моря, где шумит кедровый лес, оттуда всегда доносится аромат горной примулки.
– Я была только один раз в его церкви, – сказала женщина тихо, – но я слишком выделялась среди прочих своим ростом, красивой одеждой, мои же волосы тогда отливались чёрным блеском.
– И что же? – переспросил я в нетерпении, – он вас приметил?
– А вы спросите у него, – она засмеялась, – я ушла, не дождавшись его выхода из церкви, бросив на ковёр записку.
– Ах да! – воскликнул я, – помню тот момент, владыка нагнулся, поднял с ковра букетик цветов, понюхал, улыбнулся и спрятал в пазуху.
- Луис прервал рассказ, с моря подул сильный ветер, и распахнул тряпицу, в которой были завёрнуты корни мандрагоры.
– Так сколько ж у него Марий? – удивилась Эдит.
Луис пожал плечами, обмотал корни покрепче, вздохнув: – я знаю лишь одно, что все они посылают букетики горной аурикулы ,когда та пробуждается.
– И что ж он с ними делает? – настаивала Эдит, – значит, владыка знал ещё одну Марию, ту, которая была у него в детстве, на глазах которой он съел луковицу Чёрного Гладиолуса?
– Не ведаю про то, Эдит, – ответил Луис, – я видел только, как однажды владыка засушивал эти цветы, а потом пил из них чай.
– Чай из примулок от Марий? – Эдит неожиданно расхохоталась, – ну и вкусы у этих монахов!
Луис засобирался в путь, но Эдит снова обхватила его колени: – давай подышим ещё морским воздухом, ты помнишь, как я начала играться твоим Чёрным цветком, но помешала эта монашка, она спускалась с горы, прямо на нас высветила тропу, как будто других дорог в обители не было.
Луис присел рядом с Эдит, не отвергая её ласки: – мы же с тобой дали клятву, Эдит, что только два раза.
– Но мне кажется, Луис, что у нас ещё не было.., ни одного раза, – Эдит развеселилась, – ты такой душистый, – она стала раздевать Луиса, – мне до тебя никак не добраться, обязательно кто-то, да и помешает, однажды я так и сказала владыке Амвросию, что Луис такой душистый.
– Ты с ума сошла, Эдит! – парень пытался отстранить цепкие руки девушки, – он же выгонит меня из обители, куда я пойду?
– Будем вместе искать его Чёрный Гладиолус, – сказала весело Эдит, уж я тебя н е к и н у, это не в моём характере.
Луис и Эдит провели долгую, звёздную ночь впервые вместе, слушая шум морского прибоя по ту сторону скалистых гор, возможно, их опьянил запах восточного женьшеня, корни которого выкопал Луис для Амвросия, однако так и не донёс их до обители.
- Гиацинт «Мария». После возвращения в обитель Эдит вспоминала монаха Анфима, благословившего её в дорогу со свитком папируса. Переключив регистр мышления, целые дни проводила за рисованием, сожалея лишь о том, что так быстро вернула владыке книгу, даже не полистав на досуге. Ей пришла в голову мысль украсить страницы пастельными рисунками, но войти вновь в покои Его Преосвященства она не решалась, после долгих ночей, проведённых с Луисом, её белая роза на груди несколько подвяла, по краям лепестков появился розовый налёт ,и заклинание Наума уже не имело силы. Неожиданно на помощь пришёл Антоний, которому владыка доверял и часто оставлял ключ у водосточной трубы для пастуха, приносившего ему по утрам кувшин с парным козьим молоком, сам же Амвросий отправлялся в горы подышать морской благодатью.
– Что же ты хочешь взамен? – спросила Эдит, она знала, что пастух так просто ничего не делает.
– Сущий пустяк для тебя, Эдит, – Антоний, прищурившись, словно проел девушку взглядом, – мелочь для тебя, Эдит, а для меня..? – и он шумно вздохнул, – днём ты будешь перелистывать Книгу Монаха и украшать её рисунками, а под вечер, когда луна выйдет и разольется над свободной обителью прохладой, я освежу твой бутон розы.
Эдит, оторвавшись от рисования, засмеялась, – опоздал, Антоний, бутона уже нет, роза полураскрылась.
– Тем меньше ответственности для меня, – и он обнял Эдит за плечи, – с той весны, когда жена отдала богу душу, я не входил ещё ни в чей розарий, а я же мужчина! Я дам возможность убедить тебя в том, что могу преподать урок в любви и тому красавцу с испанской кровью, Луису, он ещё мямля, если бы мне такая девочка попалась, да я бы…
– Оставь Луиса в покое, – Эдит сползла с бугорка, открывая колени от поднявшейся юбки, подол которой был усыпан репьями, – лучше сними колючки, – и она помахала юбкой перед Антонием.
– Какое у тебя белое тело, – шепнул пастух, очищая с юбки репьи, – словно молоко парное!
Эдит же слегка отстранила его, – не суетись, я не закончила рисунок, – и она, отбросив его от себя подошвой ноги, прислонилась спиной к выступу камня, – вот так и замри, Антоний, если будешь нетерпелив, ничего не получишь, не дай бог узнает Луис, ты пропал, все свечи пойдут за упокой души!
– Христианин в любом случае должен ставить только за здравие живому, – сказал Антоний, притихнув под её пристальным взглядом.
Эдит внезапно рассмеялась, увидев покорность пастуха, захлопнула блокнот, коснулась ступнёй подбородка Антония.
– Я запечатлела тебя с овечками, – художница смутилась, – можешь меня усладить, пока я добрая, – девушка неожиданно присмирела, – взамен принеси книгу утром, когда владыка уйдёт в горы на прогулку.
Антоний поднял Эдит на руки и унёс под раскидистую ветвь цветущей айвы.
– Ты родишь мне девочку, или мальчика, без разницы, – тихо говорил Антоний, – я воспитаю ребёнка сам, ты же можешь потом уйти за своей натурой, куда глаза глядят.
Эдит беззаботно смеялась, раскрываясь под настойчивыми ласками пастуха.
– А ты ещё хорош, Антоний, – шепнула она, – даже очень хорош, только не спеши с ребёнком.
– С детьми надо всегда спешить, – ответил он, – потом будет поздно. Мне нужен крепыш от молодой здоровой женщины, – Антоний был вне себя от пылкости.
Белая роза Эдит была такой жаркой, что Антоний не удержался, переполняемый чувствами, и сказал: – куда моей бывшей жёнушке до тебя, ты огонь, бестия ,чаровница! Мы с тобою за три ночи так насытимся всласть, что ты никогда более не взглянешь на того испашку Луиса с тонкими пальцами.
Эдит в ответ лишь беспечно хохотала; заблеяли овцы, и с горы посыпались мелкие каменья, одна за другой овцы спускались в долину, потом прилегли тоже в тени, посматривая на хозяина, как он забавляется с художницей Эдит.
Горячая плоть пастуха Антония возбудила Эдит, и она на некоторое время покинула обитель Луиса и ушла в деревянный домик, где жил Антоний.
– Ты можешь здесь остаться навсегда, – говорил Антоний, когда по утрам приносил украдкой свиток папируса владыки. Однако почерк Амвросия был мелким, и она мало что могла разобрать из тех высоких и ещё непонятных Эдит по неразумению мыслей.
В один из вечеров Эдит неожиданно стало плохо, её всю выкручивало от тошноты, случилось так, что из-за непогоды Антоний не мог вернуть рукопись в покои владыки и свиток папируса остался дома у пастуха. Сплошной стеной шёл дождь, не было видно ни зги, Антоний выбежал из дома пересчитать овечек, радуясь в душе, что сбывается его заветное желание. Эдит прижала к груди книгу, думая, что от её энергетики станет легче, но тошнота не проходила.
– Нет, только не это! – воскликнула Эдит, – только не это! – и оглядела жильё пастуха, деревянную кровать с бантиками на занавесках вокруг грядушки кровати с панцирной сеткою, столик посреди и портрет жены, висевший в красном углу рядом с иконами, – я отравлю плод, – она вся передёрнулась от нового прилива тошноты.
Эдит открыла настенный шкафчик и обследовала все пузырьки с лекарствами, в одном из них увидела маковый настой.
– Снотворный маковый настой! – сказала она, – вот что убьёт грязный плод!
В лихорадке Эдит взяла пузырёк и вышла из дома под навес подышать воздухом, издали послышалось блеяние овечек, и она, уже не раздумывая, с ходу выпила настой; обессиленная, Эдит убегала из дома пастуха Антония с книгой, спрятанной под брезентовой накидкой. Чтобы не замочить свиток папируса, она вынесла из сарая ящичек и спрятала туда рукопись. В пути ей стало ещё хуже, лицо и спина покрылись испариной, ноги тряслись от чего-то липкого, скатывавшегося по ногам к щиколоткам.
Эдит, не помня себя от боли, машинально сбила с ноги сгусток крови, открыла ящичек и швырнула вовнутрь отравленный плод греха. Она боролась с белой смертью, которая шла за ней по пятам в ливень до самого рассвета. Художница была настолько слаба, что не узнала родную обитель, террасу, где выравнивались в ряд покои Преосвященного Амвросия; у водосточной трубы Эдит разрыла ямку и опустила туда греховный предмет, присыпав мокрой землей. Омыв лицо струёй дождевой воды, напившись, она покинула свободную обитель и побрела куда глаза глядят. Поэтому на рассвете, когда кто-то из монахов вспомнил, что давно не видел Эдит, а владыка, из-за дождя отменив утреннюю прогулку к морю, решил предаться своему любимому занятию, то обнаружил, что на столе нет свитка папируса. Это был такой удар для него, что правую руку тотчас свела судорога и долго её держала, пока Евлампия не растёрла ладонь спиртовой настойкой.
Поэтому и возникло предположение, что на рассвете, когда все ещё спали, Эдит вынесла украдкой книгу Амвросия, возможно проникнув в покои через распахнутое окно. Так Преосвященный Амвросий вторично был наказан за свою доброту; не придав однажды значения тому, как Эдит вошла в его тень, а потом пересекла и пространство его любимого ученика Луиса, испортив мальчика свободой нравов. В заботах и переживаниях за обитель, владыка упустил эти два момента; и вскоре за Эдит вскоре неожиданно закрепилась слава воровки.
Меж тем место, где был закопан на рассвете в ливень под водосточной трубой ящичек с отравленным плодом, в аккурат перед покоями владыки, ожило, и в тени, идущей от крыльца Его Преосвященства, через сорок дней выбился побег, на который вначале никто не обратил внимания. Он вырвался рано утром после затяжных весенних дождей, владыка Амвросий вышел на порог подышать озоном, в порывах ветра он уловил незнакомый тонкий аромат, букет запаха во множестве оттенков превосходил приторность розы, или терпкость лилии, экзарх спустился с крыльца и присел на корточки.
– Кто посмел против моей воли хозяйничать? – воскликнул он.
Лепесток дивного цветка прямо на глазах владыки... ц о к, отогнулся от корзиночки, потом другой ц о к, открылся…
Одно время главный монах обители запретил дарить ему заморские цветы, которые везли из-за моря в сосудах со специальным раствором. Пыльца вместе с ароматом попадала в дыхательный путь и оседала в чаше полубутонов Чёрного Гладиолуса, нарушая привычный ритм мышления. К тому же владыку докучала поясница, болезнь высоких людей давала о себе знать, он ощущал потуги суставов в позвоночнике и это делало его раздражительным, вдобавок, исчезла рукопись, подходившая к завершению. Он перерыл все возможные места в покоях, говоря старцу Никодиму, его охраннику: – ну, нет же ног у свитка папируса?
Тоску принесли ещё и беспрерывные дожди, которые мешали выйти в горы и там предаться размышлениям. Итак, склонившись над маленьким соцветием, очень красивым по окраске, схожей с первыми лучами зари, Амвросий уловил звук.., удививший его.
– Владыка, если ты растопчешь ступнёй моё п р е о б р а ж е н и е, то кто будет управлять обителью, когда ты одряхлеешь и уже не сможешь опираться на посох, кто будет читать тебе Книгу Монаха, когда ослабеет зрение, кто из стебля папируса изготовит полоски бумаги, на которой ты оставляешь свои мысли? – послышались слова именно с того места, где поднялся новый побег и расцвёл на глазах.
– Но кто ты, любезный, и почему вырос именно у моего порога под водосточной трубой, не спросив меня? – удивился Амвросий.
– Я цветок Аполлона – Бога Солнца, растворяюсь в бликах небесной лазури, становлюсь невидимым, на рассвете же начинается моё п р е о б р а ж е н и е, но готовлюсь я к нему с ночи, переливаясь одновременно голубою, жёлтою и розовою окрасками, и ты не сразу скажешь, какого цвета мой букет?
Амвросий выпрямился, забыв про боль в пояснице, дождь несколько стих, и пространство окрасилось чистой лазурью, он вновь глянул на цвет и вдруг улыбнулся, на душе стало легче, неожиданно поймав себя на мысли, что рукопись, плод долгих лет размышлений, наверное, где-то совсем рядом, просто её никто не может найти. Приблизилась Евлампия, она подошла не слышно, со спины владыки и остановилась, замерев от красоты нового цветка. Монахиня пришла в эти места ещё когда Амвросий был молодым и безумно по её понятиям красивым. Он строил свою обитель из белого камня правой рукой, тогда очень сильной и крепкой, первой помощницей в ту пору стала она. Каждый вечер Евлампия приносила владыке кувшин с морской водой, наливала в тазик и, присев на корточки, вслушивалась в шелест Чёрного Гладиолуса, который, по словам старца Никодима, его охранника, произрастал из плоти монаха, отчего глаза молодого владыки, подёрнутые поволокой, казалось, почивали в чёрном бархате глубокой чаши. Евлампия дорожила этими мгновениями больше всего в жизни, из десницы очей шёл звон, дававший понять, что раскрывается полубутон Чёрного Гладиолуса.
– Так это же Гиацинт «Мария»! – монахиня всплеснула руками от умиления, припав на правое колено, целуя края монашеского платья Его Преосвященства, – это чудо из чудес природы!
– Г и а ц и н т « М а р и я»? – раздельно повторил владыка, – но откуда ты всё знаешь, Евлампия? И почему он пророс у моего порога?
Получив благословение, она приподнялась и сказала, опустив лицо: – я не знаю, почему он пророс у вашего порога, но то, что цветок, махровый Гиацинт «Мария», очень редкий сорт, пожалуй, сейчас почти не встречаемый в природе, так это так зримо, как я касаюсь вашего облачения.
Владыка приподнял монахиню, та вдруг смахнула рукавом слезу.
– Что случилось, Евлампия, – спросил Амвросий, почему твои глаза опять на мокром месте? – удивился он, сделав жест, чтобы она присела на порожек, а сам припал на колени подле новоявленного чуда и в таком положении прослушал весь рассказ
- В не столь отдаленные времена моя прапрабабка вышла замуж за голландского садовода, который занимался разведением редким по тем временем чудом – посадкой гиацинтов. В своём гиацинтовом саду Пётр, так звали садовода, всегда срывал с растения цветы неправильной формы, но лишь один не успел сбить, заломила поясница. Потом он слёг на некоторое время и уже, оправившись после болезни, вышел в сад полюбоваться новым весенним цветением. Так и вдруг застыл от удивления, тот цветок неправильной формы, который он случайно не тронул из-за коликов в пояснице, развился в махровый гиацинт дивного цвета, в три тона – голубой, жёлтый и слегка розоватый. Он долго держался в соцветии, радуя всех, кто приходил любоваться на невиданный доселе сорт гиацинта; позже в семье родилась дочь Мария и в честь первого долгожданного ребенка назвали новый махровый гиацинт. Однако вскоре он погиб вместе с луковицей, кто-то ночью проник в сад и вытоптал безжалостно первенец – Гиацинт «Мария». Остались лишь следы, они были похожи на лошадиные и тогда все решили, что запах махрового гиацинта, видно, привлёк Кентавра, и он вытоптал цветок или выкрал. Правда, позже были выведены новые сорта махровых гиацинтов, но именно подобного по окраске уже не было.
- Закончив рассказ, Евлампия опять смахнула слёзы, привстала с порожка, склонив голову, радуясь, что приободрила владыку.
– Я и не думал, Евлампия, что ты умеешь рассказывать так красиво, – улыбнулся Амвросий, – но почему он пророс у моего порога, это остается пока загадкой .Я бы мог выкопать луковицу, чтобы пролить ясность, но цвет так красив и ароматен, что пока не будем его трогать, пусть порадует всех, кто окажется рядом с нашей обителью.
– Если бы я могла знать, Ваше Преосвященство, – Евлампия опять склонила голову ниц, – если бы я могла знать..?
– Как бы там ни было, скажи Луису, пусть он охраняет Гиацинт «Мария» ночью, пока мы не разберёмся в его странной истории прорасти прямо у моего порога. Может быть, это связано как-то с исчезновением свитка папируса, моей рукописи?
– Книгу, нам кажется, взяла Эдит, – раздражённо сказала монахиня, – она много рисовала на горе, в последнее время её постоянно видели с пастухом Антонием, они всё время шептались.
– Шептались? – удивился владыка, – впрочем, зачем ей воровать мою книгу. Я бы ей дал посмотреть и так, ведь она же однажды спасла мой заветный свиток, – он вздохнул,– нет, я не верю, Эдит хотя и взбалмошная по молодости, но не воровка, – он стал гладить бороду, обратив взор на махровый гиацинт, – как бы там ни было, пусть Луис бодрствует ночью, присматривая за Гиацинтом «Мария», а там посмотрим.
Владыка удалился в покои и закрылся на ключ, Евлампия крикнула Луиса и наказала ему не отходить от странного цветка, смутившего покой Преосвященного Амвросия.
Наступили сумерки, диск луны вывернулся над самой обителью, разлив свет над порогом владыки. В тот миг Гиацинт «Мария» развернулся соцветием к лицу Луиса, который прохаживался взад и вперед, зевая, вспоминая Эдит и недоумевая по поводу странного исчезновения.
– Здравствуй, Луис, – послышался в тишине знакомый голосок, он словно пронзил парня насквозь. Луис вздрогнул, оглянулся, но не было ни единой живой души. Приветствие повторилось несколько раз, пока до сознания Луиса дошло, что на разговор его выводит дивный цветок Гиацинт «Мария».
– С ней всё хорошо, не грусти, – сказал язычок соцветия.
– С кем хорошо? – удивился Луис,присел на корточки перед Гиацинтом , коснувшись чаши.
– Кто меня дразнит? – протянул он, – только одна женщина может играть так со мной, но... – он развёл руками, приподнимаясь, – её нет давно.
– Я могла бы быть сладкой дочерью Марией, но зародыш отравлен, спасибо п р е о б р а ж е н и ю, в последнюю минуту оно спасло меня.
Луис застонал от боли, пронзившей душу.
– В чьей бы плоти ты ни был коварный цветок, но хватит, я сыт по горло всякими домыслами. Эдит нет! – воскликнул он, неожиданно испугавшись интонации собственного голоса, обычно он всегда был спокоен.
Окно Преосвященного Амвросия распахнулось, и в проеме появился он.
– Луис, – сказал владыка тихо и раздельно, – приведи сюда Евлампию, – по интонации его голоса можно было понять, что он всё слышал.
Тогда Луис, вдруг испугавшись, упал на колени перед владыкой и широким взмахом руки перекрестился: – я ничего не знал, Ваше Преосвященство, ничего абсолютно не знал!
Владыка захлопнул окно и вскоре вышел во двор, из-за гор доносился усиливавшийся шторм на море, налетали порывы холодного ветра.
– Ты перестал меня слышать? – повторил Амвросий, снял с водосточной трубы лопатку и воткнул остриё в лунку рядом с Гиацинтом «Марией».
Евлампия прибежала резво и тоже упала в ноги владыке: – я уйду в другой монастырь и там искуплю вину, – плечи затряслись от рыданий, – этот грех я ношу всю весну. Я знала, что Эдит беременна, я видела дитя в её глазах.
Владыка весь сжался, – я всё понял сразу, когда ты стала мне рассказывать всякие небылицы про свою прапрабабку, о Гиацинте «Марии», – он хотел поддеть с размаху цветок под корень, но остриё лопатки со звоном стукнулось о что-то тяжелое. В пространстве в порывах ветра ворвался ещё и перезвон… Гиацинт «Мария» покачнулся, владыка в эмоциях отбросил лопатку и стал разрыхлять землю руками, вскоре выкопав маленький ящичек, похожий на гробик, сорвал его крышку и... от удивления так и присел. В отблесках яркого полнолуния он увидел на дне ящичка свиток папируса. От эмоций его правую руку вновь свела судорога, некоторое время он не смог пошевельнуть пальцами. К ящичку бросился Луис, вынул книгу, раскрыл её на середине, увидев вкладыш с рисунками Эдит и, тотчас смутившись, захлопнул рукопись. Однако владыка, разрабатывая руку, заметил рисунки, он кивнул Луису, чтобы тот снова открыл папирус. Луис повиновался, владыка левой рукой разгладил уголок листа, вкладыша с рисунками пастельным карандашом гиацинтового сада, что было очень удивительно, откуда Эдит могла знать про гиацинты, ведь вокруг побережья Белого моря из-за холодности ветров такие нежные цветы никогда не произрастали.
– Значит, Эдит не воровка! – воскликнул Луис.
– Ты мне зубы не заговаривай, – владыка оттянул левой рукой ухо Луиса, – ступай в свою келью и молись трое суток на коленях, на воде и хлебе пусть будет твое довольствие.
Штормовой ветер рванулся с моря, закрыв луну и звезды, лишь слегка рдел силуэт Млечного пути, развернувшегося ковшом над порочным местом.
– Как попали рисунки Эдит в мою книгу, кто-то ещё касался страниц, – и он повернул Луиса и Евлампию лицом друг к другу.
– Когда Эдит узнала, что вы пишите книгу, она захотела украсить её своими рисунками, – сказали они вместе.
– Это я понял и без ваших оправданий, – он усмехнулся, – я же спрашиваю о другом. Как рисунки попали в мои страницы?
– Я бы сказала не так, Ваше Преосвященство, – Евлампия подняла голову и, осмелев, вдруг скороговоркой выпалила, – почему гробик с ребёнком был закопан Эдит под вашим порогом? Вас это не смущает?
Это было уже слишком, владыка чуть не замахнулся на монахиню, но вовремя удержал себя: – ты хочешь сказать, что из отравленного плода вырос Гиацинт «Мария»?
Владыка, не помня себя от гнева, вдавил цветок в землю так, что хрустнула луковица, и из неё брызнул сок, окропив правую руку Амвросия, он отдёрнул ладонь, словно обжёгшись, и сунул под разрез кафтана.
– Вы сводите счёты с невинным цветком, Ваше Преосвященство, – и откуда у монахини появились силы, чтобы спорить с лучезарным владыкой?
– Я так думаю, – неожиданно нашёлся Луис, – что в темноте Эдит перепутала тропы, потому что в те дни, когда она исчезла, шли беспрерывные дожди.
– Вот тут ты прав, – Евлампия рассмеялась, – ведь келья Луиса угловая, и ваш дом стоит на отшибе, у самого конца террасы.
– Это наговор! – Луис стал божиться, что ничего такого не знает.
– Я не хочу больше никого слушать, – владыка, прижав свиток папируса к груди, вошёл в покои ,захлопнув в сердцах дверь.
Евлампия застонала от боли, приподняла подол юбки и стала топтать ногами место, где только что нашли порочный ящичек. Луис, неожиданно успокоившись, поняв, что Эдит не воровка, пошёл к своей келье. Евлампия же присела и стала разбрасывать землю, чтобы вырвать все корни цветка. Из-за каменного выступа возник силуэт пастуха Антония, словно и он караулил это странное место, или догадывался о нём. Антоний обхватил монахиню за плечи.
– Матушка Евлампия, – тихо сказал он, – оставь в покое цветок, может, он заговорённый, я только что слышал, как донёс ветер, что в нём кровь убитого ребёнка в греховном чреве матери, – он содрогнулся, – не везёт мне на женщин, красавица-монахиня!
Антоний стал вытирать рукавом плаща слёзы Евлампии, вдруг весь, обмякнув, впился во влажные женские губы и стал через кофту мять груди.
– Да ты, золотая Евлампьюшка, поди, девственница, – проникнув через разрез, коснулся тела, – и куда это господь смотрит?
– Уйди, нечистый! – она оттолкнула пастуха и запахнула верхний разрез .
Однако он успел обхватить снова её за плечи и прижать к себе с такой силой, что Евлампия вся сомлела и затряслась.
– Да какой же я нечистый, самый, что ни на есть чистый мужчина, – и он повлёк её по тропе в ночь, а потом подхватил на руки и понёс так быстро, что Евлампия не успела понять, как оказалась на стоге сена рядом с навесом, где блеяли овцы.
– Ну, касатка, – шептал Антоний, – ну, милая, поддай мне, ведь это такое блаженство, стоит тебе раз вкусить,и ты будешь бегать за мной, как... – Антоний снял с монахини косынку, растрепал её волосы, они рассыпались по спине, – а какие волосы, прямо красота, и ты их носишь под чёрным платком, так это же грех! – и Антоний стал раздевать Евлампию, – ну сколько же на тебе юбок, касатка, а какое тело упругое, да ты сущая красавица! Жаль, что ночь, луна как назло спряталась за тучу, – и Антоний вдел руку в разрез последней юбки, но она была туго зашнурована и никак не поддавалась пастуху.
Раскаты грома потрясали пространство, следом сверкнула молния, осветив навес и стог сена, где барахтался пастух, пытаясь овладеть женским телом. Неожиданно Евлампия рванулась, то ли от какого ожога или прикосновения к её тайникам, что есть силы оттолкнув от себя Антония, вскочила и трясущимися руками стала застёгивать кофту, затем, подхватив юбку, выскочила прямо в проливной дождь.
– Подожди ,касатка! – крикнул Антоний, – он рванулся и поймал её за ноги, подтянув снова под навес, обнял со спины и сдавил так, что кости Евлампии хрустнули, – это такое блаженство…,милочка!
– Я тебе не Эдит, – она рванулась, но цепкие руки пастуха удержали монахиню.
– Причём тут Эдит, – он засмеялся, – у нас с ней были чисто деловые отношения. Я ей рукопись Амвросия в тайне принес, а она мне пару разков дала, а поймала девица от испашки Луиса, вот и всё, – он захохотал и стал тискать Евлампию, – ты же, касатка, вся как на меду настоянная, юркая и жгучая, как дикая пчёлка!
Антоний, изловчившись, с такой силой подмял под себя Евлампию, что она лишь охнула. Раскаты грома заглушили борьбу мужчины и женщины, победил сильный, зверь он всегда останется зверем, и возьмет своё без покаяния. С той ночи Евлампия исчезла из свободной обители, и никто из монахов её более не видел. Право же, оставалось предположение,что пастух всё-таки спрятал Евлампию ,умоляя родить сына, чтобы смыть с себя грех молодости .
В тоже время по настоянию владыки на поиски Эдит отправился Луис. Стало как-то неспокойно и на душе Амвросия, предчувствие не обманывало его никогда, он понимал, что Кентавр приблизился уже и к нему, делая попытки чревоточить его обитель с таким трудом им возродившую.
- Сусанна – дочь Белой Лилии. В ту грустную весну, когда атмосферу пробили шумные проливные дожди, Амвросий услышал в десницах шелест, он понял, что постепенно цветок его плоти Чёрный Гладиолус возвращался к жизни, и тогда он распорядился вернуть Луиса, который отправился на поиски Эдит, вернуть юношу для равновесия, поведав о том, что после обильных дождей и переживаний, исчезновения Эдит и Евлампии, один из корней пророс и дал новую жизнь всему духовному началу. Лишь не хватало Луиса, которому владыка был открыт. Пытаясь искупить вину, Амвросий решил поодаль своих покоев рассадить гиацинтовый сад, он привёз луковицы из далёкого заморского вояжа, вскоре они укоренились, проросли и вытянулись к солнцу, одаривая обитель ароматом, несвойственному запаху роз, которые всегд
аподносили Его Преосвященству.
Всё свободное время Амвросий теперь проводил в гиацинтовом саду, пересматривая рукопись, отшлифовывая отдельные строки, перебирал рисунки Эдит, усмехался, разглядывая, понимая, что гиацинтовый сад, нарисован пастельными карандашами ничуть не хуже настоящего. Его правая рука начинала возвращаться к прежнему ритму, спала краснота, ожили суставы, и он понемногу дописывал книгу дальше. Слухи о чудодейственном аромате гиацинтового сада в монастырской обители однажды привлекли юную путешественницу Сусанну, которая увлекалась изучением языка цветов. Ради этого Сусанна исходила Красное, Жёлтое, Чёрное моря и вот теперь ветер судьбы прибил её к Белому, холодному и на первый взгляд неприступному. Ещё в середине восемнадцатого века здесь разбились два судна, столкнувшись в тумане, и штормовой волной были выброшены на берег ящики с луковицами незнакомых для тех мест цветов, потом их разнёс ветер, однако некоторые клубни прижились и вскоре выбросили чудные соцветия разной окраски с приторно сладким ароматом. Тогда же страсти по тюльпанам вокруг побережья Белого моря стали утихать, на смену приходил новый цветок, однако этот вид не успел привлечь внимание монашествующей братии вокруг побережья, как вдруг по одной из вёсен не взошёл, то ли море сбило штормовой волной корни, или провидение заговорило, и он тайно исчез. Вскоре вырвалась слава о Гиацинте «Мария», который дал повод Преосвященному Амвросию развести новый гиацинтовый сад ярких полутонов всех красок радуги.
Именно история того цветка долго занимала и молодую путешественницу Сусанну, исследуя всё прибрежное пространство, расспрашивая монахов, любящих совершать длительные паломничества. По описаниям желанный предмет её исканий походил на Г и а ц и н т. Так Сусанна однажды появилась в монастырской обители Преосвященного Амвросия. Гиацинтовый сад владыки охраняли три инока, держа любопытствующих на определённом расстоянии от цветущего оазиса, аромат которого обволакивал всё пространство обители и витал даже над побережьем Белого моря по эту сторону скалистых гор. В тот момент владыка трапезничал на веранде, обозревая все прелести весны. Две монахини поднесли ему к обеду в глубокой миске постный супчик и блюдо с мелко нашинкованной морской капустой и отварным картофелем. Внезапно раздался в саду крик служителя:
– Женщина в саду! Не велено пускать женщину в гиацинтовый сад!
Владыка, оставив на миг трапезу, воскликнул: – как прошла дама в мой сад? – он выбежал на порог, спустился на тропу к саду, монах упал ниц, целуя края полы широкого бордового платья Амвросия. А посреди гиацинтового сада, улыбаясь, стояла высокая женщина в длинном белом сарафане, её волосы были золотисты, как пыльца лилии.
– Кто вам позволил топтать мой сад? – сурово спросил владыка.
Женщина, слегка выдвинувшись к монаху, сказала: – Ваше Преосвященство, я, Сусанна, если вы не признали мою первооснову, племянница настоятеля монастыря времён Людовика IX, в отличие от вашей обители наш дух подпитывает роскошный сад лилий.
Сусанна приблизилась и отвернула на груди волан, идущий от крыла сарафана, отколола раскидистую в полубутоне белую лилию и протянула владыке. Тот кивнул монаху, стоявшему рядом с ней, и он взял цветок, тотчас разлился приторный аромат.
– Я иду к вам через века, горы и моря, которые давно уже не те, когда родилась я, прошла Красное, Жёлтое, Чёрное, приблизилась к морю Мраморному, но не посмела ступить в Удел Пресвятой Богородицы. Я вся в поисках цветка, о котором слышала в 1734 году от эльфов. Духов природы всегда привлекали венчики, звуки их колокольчиков созывали эльфов на молитву. Так я узнала о судьбе дивного Гиацинта, луковицы которого рассыпались при крушении тех судов в пределах Белого моря, вот моя история, ваша светлость, – и Сусанна вынула из кармана сарафана монету, флорин.
– Я узнал тебя, Сусанна, дочь Белой Лилии, даже если бы ты не показала свой флорин, – владыка кивнул монаху, чтобы тот вынес для барышни раскладной стульчик, после чего жестом усадил её.
– Пусть отдохнут твои нежные ножки в белых туфельках, я вижу, как стёрты на них каблуки, – тихо сказал владыка.
Однако Сусанна отказалась от услуги, обогнув ряд гиацинтов, приподнимая полы длинного сарафана, присела на порожке крыльца, где трапезничал Его Преосвященство. Владыка приказал служителю принести большую кружку козьего молока, на подносе лежали и два ломтя белого монастырского хлеба.
– Что там мои постные блюда, – усмехнулся Амвросий, – выпей с дороги жирного сладкого молока, подкрепи силы, Сусанна, дочь Белой Лилии, – после этих слов владыка, не спеша, продолжил свою трапезу.
Солнце входило в зенит, разбрасывая полуденные лучи над гиацинтовым садом.
– Владыка, – Сусанна вытянула ножки в сторону сада, разомлев от козьего молока, – вы слышали, что сказала моя лилия, когда я протянула её вам?
Амвросий кивнул монаху, державшему ароматный цветок, – принеси сосуд и поставь лилию в проточную воду на моём рабочем столе, – повернулся к Сусанне. – Если я правильно понимаю язык цветов, ведь моя «Книга Жизни» посвящена именно этому, узнаванию языков цветов, то Белая Лилия сказала примерно следующее: «ты получишь всё, что только я могу тебе дать, но не спеши брать».
Сусанна слегка смутилась, отчего её белый сарафан с крыльями от прямых полуденных лучей принял розовый оттенок.
– Я тронута вашим познанием, владыка, – она улыбнулась, – вы умеете не только слышать, но и осязать суть самого цветка, его трепет, – она пригнула голову в знак смирения перед ним, – у меня два желания, которые через века привели меня к Белому морю.
– Я весь внимания, дитя природы, – владыка, меж тем, доел постный супчик с тёртой фасолью, отложив тарелку в сторону, – я открыт для дочери Белой Лилии, воплощающей христианское начало.
– Мне нужна луковица Гиацинта «Мария», в моих исследованиях о языке цветов не хватает именно сведений об этом уникальном виде цветов, – Сусанна приподнялась, бросив взгляд вдаль сада. – Говорят, что в 1734 году, то есть почти через сто лет после тюльпановой горячки, когда страсти несколько поуспокоились, один голландский цветовод возбудил всеобщее любопытство, открыв тайну Гиацинта «Мария».
Владыка отпил несколько глотков домашнего кваса, утоляя жажду, потом сказал: – кажется, я слышал нечто похожее от одной бывшей монахини нашей обители. Эльф во время молитвы принёс такую весть, что вблизи побережья Белого моря из плода, отравленного в чреве матери, через весну народится этот уникальный вид и будет ему имя Гиацинт «Мария», – владыка хитро улыбнулся, развёл руками, – а второе желание?
Сусанна допила в кружке козье молоко, однако к хлебу так и не притронулась: – Книга Монаха, которую вы писали по ночам своей живой плотью, – сказала она тихо, – могла бы я к ней прикоснуться, чтобы ощутить энергетику.
– Даже и это знают эльфы, – усмехнулся Амвросий, – архангел Гавриил на Благовещение явился к Пресвятой Деве с Белой Лилией в руке, выходит, я не могу отказать Сусанне, дочери Белой Лилии, – владыка помедлил… – Вся беда в том, что гиацинтовый сад так разросся, я не уверен, что могу найти желанный вид, тем более каждую весну гиацинт, подобно макам, меняет окраску и тональность.
Однако Сусанна взмахнула крылом сарафана, и оттуда вылетел эльф, он стал кружить над садом, владыка лишь улыбнулся, пожав плечами, отодвинул от себя блюдо с нашинкованной капустой и мелко порезанным отварным картофелем, допил холодный квас, прошёл в дом. Эльф закружился над садом и долго что-то искал, словно переговаривался с невидимой божественной нитью, которая охватила гиацинтовый сад. Вскоре присел на зубчик нежного соцветия в жёлтом одеянии по краям и задержался, давая знак Сусанне подойти. Она ступила в сад, присела, сняла эльф с лепестка гиацинта, приоткрыв крылышко сарафана, однако Сусанна была ещё не уверена, что нашла именно нужное соцветие, и всё же выкопала гиацинт с клубнем, лицо зарделось от волнения, она поцеловала каждый лепесток, спрятала под волан одежды. На пороге появился владыка, держа в руке папку в кожаном переплете, и кивнул Сусанне.
– Я не хочу прослыть воровкой в ваших глазах, – тихо сказала она, и отвернула волан сарафана, – я выкопала клубень гиацинта, возможно, это то, что очень долго ищу в путешествиях, но это покажет следующая весна, – прикрыв растение, подошла ближе, взяла свиток папируса, раскрыла, перелистала рукопись, читая на титульном листе: «Ты получишь всё, что только я могу тебе дать, но не спеши брать». Она улыбнулась, провела ладонью по страницам, словно вбирая энергию мыслей Преосвященного Амвросия.
– Я сканировала вашу книгу, владыка, правой рукой, – сказала она тихо, – вернувшись домой, я начну её читать с вашего благословения.
– Я же сказал, что открыт для дочери Белой Лилии, – Амвросий усмехнулся, – в ней много символов, поймёшь ли ты мою тоску в подтексте, страдания, которые не всегда выльешь в строки, хотя они и живой плотью писаны.
– Таков ваш у д е л, – сказала Сусанна, – вы помните сюжет из предания, когда Чистая Белая лилия в ночь перед крестным страданием Спасителя превратилась в красную?
– Почему белое вино стало красным? – улыбнулся он, – мне ли не помнить угрызения совести Белой Лилии, когда томимый тоской, Спаситель при лунном свете проходил по Гефсиманскому саду, задержав свой печальный взгляд на той лилии, и ей стало стыдно за свою гордость, ведь пред ней смиренно стоял Спаситель. Это настолько озадачило Белую Лилию, что румянец охватил её лепестки, так вот поэтому с той поры красные лилии смыкают ночью свои чаши, – владыка припал спиной к стене… – Кстати, я развиваю божественную линию этого сюжета в своей книге, – он стал разминать правую руку, – хотя несколько иначе, чем гласит знакомое с детства предание.
– Каждый утоляет жажду из родника познаний, проходя через свой сад цветов, дарованных судьбою, или же лучше п р е д н а ч е р т а н и е м – помедлив, Сусанна продолжила, – вашу истину прозрения – Чёрный Гладиолус не иссушила ли тоска? Ваш взгляд, владыка, словно блуждает в пустоте без ощущения его световых лучей.
– Как бы я хотел тебе возразить, – вздохнул он, – но тысячу раз права, Чёрный Гладиолус иссушила тоска.
– Выходит, плоть ваша умерла на пути к истине прозрения, – сочувственно сказала Сусанна.
– Здесь ты ошиблась, дочь Белой Лилии, – ответил Амвросий, – скорей, она притаилась, когда я совершаю утренний моцион, поднимаюсь в гору, чтобы с вершины обозреть Белое море, она даёт о себе знать, однажды я споткнулся и упал на камень, разбив в кровь лицо.
– Может, вас кто-то толкнул в спину? – удивилась Сусанна, оглядывая крепкую фигуру, словно литую, Преосвященного Амвросия.
– Не думаю, – сказал он, – тогда следом случилось два несчастья.
– Несчастья всегда ходят вместе, тут я согласна с вами, а счастье лишь выглядывает из-за утёса, – Сусанна коснулась его правой руки, – я сканирую вашу боль на время, может, мне удастся подобрать вам настой из цветов, смягчающий суставы.
– Спасибо, Сусанна, за заботу, – ответил он, – но правая рука постепенно приходит в норму, – владыка улыбнулся, – всё началось именно с того падения, я выронил невзначай рукопись, и она скатилась в расщелину в муравьиное царство. Лишь находчивость молодой художницы нашей обители вернула свиток папируса домой, правда, его немного погрызли муравьи, – и он полистал рукопись, – мой цветок жизни – Чёрный Гладиолус от сотрясения поранил корень и я стал плохо видеть… Но,- владыка помедлил,- рассаживая гиацинтовый сад, я вдруг прозрел, – он развёл руками, – надолго ли? Однако хотя я и вижу, но не чувствую предмет , запятнаны краски восприятия.
Из страниц рукописи неожиданно выскользнул рисунок и упал на порожек прямо к ногам Сусанны, она не замедлила его поднять.
– Рисунок, сканировавший гиацинтовый сад, что за прелесть! – Сусанна разгладила его, – только не ясно, как могла Эдит так точно передать картину сада, его цвет, плоскость, летящего эльфа? – она развернула лист бумаги к живому саду в его реалиях…– Обратите внимание, оазис словно выписан с натуры. Ведь в ту пору, когда рисовала Эдит, у вас не было и в проекте гиацинтового сада. Выходит, художница предвидела?..
Владыка задумался, взял рисунок из рук Сусанны, вгляделся в его очертания и поспешно вложил в рукопись.
– Я не придал этому значения, – ответил он, – возможно, художница обладает особой интуицией, умеющей предвидеть то, что недоступно иному.
– Нет, Эдит слишком молода, – усмехнулась Сусанна, добавив тише, – ей же пятнадцать лет, а у неё была первая беременность, Ваше Преосвященство, Гиацинт «Мария» из её утерянного зачатия, точнее, отравленного плода.
– Кто тебе это сказал? – владыка был потрясён осведомлённостью дочери Белой Лилии.
– Эльф, – Сусанна прижала руку к груди, где под воланом сарафана дышала луковица гиацинта.
– Бедное дитя природы, как я мог так опростоволоситься, – сокрушался Амвросий, – я ведь доверял Луису, любил, как сына.
– Но Луису и того меньше, ему только четырнадцать, парень лишь в рост пошёл, – засмеялась Сусанна, – однако ум его ещё столь инфантилен, сколько и плоть.
– Ты меня совсем озадачила, дочь Белой Лилии, тогда кто? – тихо спросил он, – кто оставил девочке последствия? Я должен в этом сам непременно разобраться.
– Владыка, я видела Эдит, как она рисовала у Белого моря, обхаживая местных рыбаков портретами с натуры, в ответ они подкармливали её субстанцию печёной рыбёшкой вместе с икрой, – Сусанна улыбнулась, – Эдит так неразборчива в связях. Это от доброты.
Владыка кивнул монаху, чтобы тот убрал столик с трапезой, почистил коврик от пыли и пыльцы, которую принесла Сусанна; выпрямившись в полный рост, сойдя с крыльца, остановился у водосточной трубы.
– Здесь я нашёл гробик, в нём лежала моя книга и луковица Гиацинта «Мария». Для меня две загадки, почему Эдит закопала гробик у моего порога, ведь я всегда относился к ней по-отечески, даже терпел её присутствие в моей тени, когда она рисовала со спины. Это один штрих, второй, как к ней попал свиток папируса, ведь я был тогда далеко за морем, к тому же она уже один раз сделала мне доброе дело, нашла книгу, зачем же было теперь воровать её? Кто провёл в мои покои, или передал рукопись и зачем?
– Я думаю, найдя Эдит у побережья, расспросив, вы разрешите все сомнения насчёт честности и прочие щепетильные моменты, – Сусанна вытряхнула из туфелек землю, приготовившись к обратной дороге, – сколько лет пастуху тех овечек, чьё молоко пила и я? – неожиданно спросила она.
– Старцу Антонию!? – удивлённо переспросил Амвросий, – я пришёл сюда таким молодым, а он и тогда был седым и всё играл на своём рожке, созывая по вечерам овечек, правда, потом он исчез, однако вскоре мы все услышали трели рожка, как будто ничего и не случилось в его жизни.
– Он похоронил жену до постройки вашей обители? – вновь настойчиво спросила Сусанна, – одинокий мужчина опаснее матёрого волка.
– Возможно, – владыка призадумался, – но все мы тогда были охвачены радостным созиданием монастыря и на внешнее окружение не обращали внимания, но я как-то слышал, что он был одно время в трауре, даже на овечках повесил чёрные ленточки.
– Так он любил жену? – усмехнулась Сусанна, – какой же сердобольный? – преклонив колено, поцеловав края монашеского платья, она вышла на тропу к морю, оставив Его Преосвященство в глубокой задумчивости.
Он закрылся в своем кабинете, листая рукопись, ища в ней, возможно, посторонние детали, ведь свиток папируса был уже дважды в руках художницы. Старец Никодим скатал ковёр и вдруг у самого его края заметил флорин, поднёс монету к глазам и побледнел, припал на колено и стал молиться; остаётся предполагать, что вывело монаха из равновесия, на одной стороне найденного флорина было изображение Иоанна Крестителя, а на другой в убранстве лилий крест с надписью: - «Х р и с т о с п о б е ж д а е т, Х р и с т о с ц а р с т в у е т, Х р и с т о с п р а в и т». Монета была вещественной деталью, что Сусанна пришла в обитель из времени правления Людовика IX. Прижимая флорин к груди, старец осторожно ступил в кабинет владыки, но его не было за рабочим столом. Он же положил монету рядом с Тихвинской иконой Божией Матери, покровительницей монахов, и также неслышно удалился.
Сильный порыв ветра рванул штору, конец которой задел флорин, и монета упала на ковёр, задев ножку стола, инкрустированную розовым мрамором. Зазвенев, флорин обернулся на ворсистом ковре васильком. На шум вбежал владыка, плотно прикрыл створки распахнутого окна, поправил штору и вдруг заметил на ковре василёк. Владыка с трудом нагнулся, держась за поясницу, поднял цветок, расправил лепестки и опустил в вазочку близ образа иконы, долив из графина проточной воды. Василёк был так мил, что Амвросий присел за стол, опустив правую ладонь на переплёт свитка папируса.
– Как ты попал сюда, малыш? – словно с самим собой заговорил он, поправил зубчик на лепестке, несколько примятый, распрямил шапочку с чисто синей окраскою. Со дна корзиночки василька упала на его правую ладонь капочка сока, владыка, почувствовав что-то влажное, растёр запястье, суставы тотчас ожили, исчезла краснота, набухшие под кожей жилы обмякли. Владыка, удивленный, принялся разрабатывать ладонь, сжимая и разжимая пальцы.
– Кто же позаботился обо мне? – и опять молчание в ответ, только василёк изменился --- из синего колера на белый.
– Ладно, пусть твой образ, – сказал владыка, – определяется не словами, а делами, – Амвросий переобулся у порога, надев плетёные сандалии из стеблей папируса, и вышел на тропу, ведущую к наскальной стене, отходящей от террасы.
Владыка обошёл ступени, проник через расщелину к побережью, рыбацким лодкам, вскоре туман поглотил его силуэт вместе с тенью.
Меж тем, Сусанна, довольная исходом своего длительного путешествия в поисках уникального сорта Гиацинта «Мария», как выяснилось позже, что второго такого в цветочном королевстве Флоры нет, обошла обитель вдоль горы и свернула в долину в самый конец. Там начиналась айвовая полоса, в просеках паслись овцы, мирно пощипывая сочную монастырскую траву. Под раскидистой веткой айвы дремал на спине нагишом, разбросав ноги и руки, пастух Антоний. Было душно и влажный воздух, шедший с побережья вместе с туманом, нисколько не смягчал плотность атмосферы. Сусанна от неожиданности замерла, созерцая крепкое мужское тело. Потом она, разбросав сарафан, присела на корточки, и, вынув из волос белую лилию, стала размахивать перед лицом пастуха, осыпая жёлтой пыльцой и насыщая пространство приторно сладким ароматом. Антоний чихнул и открыл глаза, приподнявшись на локтях, попытался подтянуть к себе одежду, но Сусанна, коснувшись пальчиками его груди в седом пушке, остановила жестом.
– Отдохни, пастушок, раз твои овцы разбрелись в поисках сочного корма, – она язычком стала собирать пыльцу с его лица, – ты такой седой пастух, а поле твоё чёрное и густое, всё в трепетном ожидании прикосновения, – Сусанна стала дуть на пупок Антония.
Тот замер при виде склонившейся над ним молодой красивой женщины в белом, его тело охватила истома, меж тем Сусанна продолжала проявлять любопытство к персоне Антония.
– А что это такое в низине твоего роскошного чёрного поля, пастух? – дочь Белой Лилии качнула цветком, разбросав новый слой жёлтой пыльцы.
– Ты э т о никогда не видела? – Антоний весь встрепенулся, попытался подняться со спины и обхватить Сусанну за плечи, но она прикосновением ладони уложила на землю.
– Н и к о г д а, твой чёрный цвет незнаком дочери Белой Лилии, правда, он странно пахнет, словно от него тянет навозом. Мне становится дурно, – и она закашлялась.
– Ну что ты, барышня Лилия, это же р о ж о к, в сумерках он вместе со мной зазывает овечек домой, отчего от него такой несколько едкий запашок, – он попытался поймать руку Сусанны, – сейчас, как видишь, он ещё спит в ожидании, когда твоя нежная ручка расшевелит то «самое», которое ты никогда не видела.
– Ты хочешь, чтобы я его расшевелила? – улыбнулась Сусанна.
Антоний встрепенулся, попытался подняться, но женская ладонь снова уложила его на спину, – так это нам ничего не стоит, – и Сусанна, склонившись, стала втягивать запах плоти, задерживая своим дыханием.
– Что ты делаешь, барышня! – прогневался пастух, в который раз попытавшись вскочить с земли… – Ты распыляешь мой сонный цвет, красавица! Откуда бы ты ни пришла, из сна, или из преисподне, или из того тысячелетия, но мы так не договаривались.– Антоний забился в конвульсиях, пытаясь сорвать сарафан с Сусанны.
Она же с размаху ударила его каблучком туфельки по щиколотке, Антоний завопил от боли. Так они боролись несколько минут, Сусанна, в конце концов, выиграла битву; она коленом вдавила его пупок так, что пастух затрясся, обессиленный: – что ты сделала со мной, белая ведьма! Ты отравила мой сон, – кричал пастух, ты лишила мой живой цветок плоти, ты выпила его энергию...
– Я забрала твой магний, пастух, – Сусанна, довольная, осыпала его грудь жёлтой пыльцой, – а ты действительно ещё хорош, я шла к этому удовольствию через века...
– Зачем тебе м а г н и й? – если ты вобрала запах моей плоти через воздух, – он уже не мог подняться, а лишь тяжело и прерывисто дышал, – я нежил свой магний, лишь для одной...
Сусанна усмехнулась: – ты для одной, а я же для многих, я для э л ь ф о в, когда мои маленькие братья собираются по вечерам в венчике лилии для молитв, им нужен человеческий магний плоти, – Сусанна расхохоталась.– Не могла же я вкусить сей м а г н и й от блаженных монахов, это не по-христиански! – и дочь Белой Лилии растворилась в дымке тумана, идущего с моря через скалистый горный перевал.
Так Сусанна, пришедшая в свободную обитель из времен Людовика IX, позабавилась над пастухом Антонием, мстя за художницу Эдит, быть может, и за Евлампию, участь которой пока была неизвестна, унося на память луковицу Гиацинта «Мария», или похожую на неё.
- Drumul vietii. Причал был безлюден, надвигалась гроза, однако побережье выглядело не таким печальным и пустынным, какой была душа Эдит, словно облитая ядом после насилия над собой. Резкий порыв ветра сорвал с головы венок из васильков и закружил в воздухе над вздыбившими волнами. В ту же секунду кто-то за спиной с шумом развернулся, слегка обдав брызгами. Она резко обернулась и вздрогнула – перед ней стоял владыка с венком из васильков, владыка встряхнул его от воды и набросил снова на голову Эдит; она же ,смутившись, отложив рисунок, коснулась лёгким поцелуем полы чёрного платья Его Преосвященства.
– Как вы нашли меня? – тихо спросила Эдит, заливаясь от нахлынувшего волнения краской. Владыка присел рядом с планшетом, стал рассматривать рисунки.
– Я же не Луис, – усмехнулся он, – который ищет тебя вторую весну, уже отцвёл новый гиацинтовый сад, а его и духа не слышно.
– Разве Луис ищет меня? – удивилась Эдит, – мы с ним немного поссорились, – она внимательно осмотрела правую руку Амвросия, – ещё болит ваша ладонь?
– Да, немного ноет, – сказал он тихо, – но это уже не столь важно, главное, что ты вновь появилась на побережье со своим планшетом, – он улыбнулся, поправил венок на ее ,отливающим медью, волосах, слегка сдвинутый ветром.
– Вам сказала обо мне Сусанна? – спросила Эдит, поцеловав правую руку владыки у запястья.
– Сусанна? – переспросил хитро владыка, – я ощутил в своём гиацинтовом саду лишь приторно сладкий аромат, так могла пахнуть только Белая Лилия. Но если ты называешь её Сусанна, – и он развёл руками, улыбаясь, – но разве вы виделись во времени?
– Да, мы не видели друг друга, потому что в глаза било полуденное солнце, когда матросик угощал меня печёными бычками, лишь я узнала Сусанну по запаху, приторно душистому аромату Белой Лилии, – ответила Эдит, – взяла правую руку Преосвященного Амвросия и прижала к сердцу, – это я виновата в том, что судорога свела вашу руку, – и она шумно вздохнула.
– Никакой вины твоей нет, дитя природы, – сказал он и завёл руку за спину, – слишком много внимания моей персоне, давай лучше рассказывай о себе, – он продолжал просматривать её рисунки, – это интересно, – владыка развернул лист бумаги к солнцу, – бог дал тебе талант, Эдит, не распыляй его.
– Постараюсь, – она смутилась под пристальным взглядом владыки, – вы слышали о лилии, цветущей ночью? – спросила она скороговоркой, – не о небесной, или красной, которая напоминает любимый цветок Будды – Л о т о с, а о белом цветке смерти?
Владыка, отжав низ монашеского платья, присел на большой камень, рассматривая на коленях рисунки Эдит, после паузы он ответил: – в средние века в монастырях разводили целые сады лилий, и на этой почве появилось много сказаний, домыслов. Бабушка моей матери, об этом я пишу в своей книге, рассказывала, что в Корвейском монастыре за три дня до смерти одному брату-монаху положили на стул белую лилию и тот отравился запахами. Тогда один из честолюбивых монахов, воспользовавшись ситуацией, порешил извести престарелого приора и в одну ночь оставил на его стуле душистую белую лилию. Настоятель, увидев белую лилию, испугался и тотчас отдал богу душу. Исполнилось желание честолюбивого монаха, он был избран настоятелем монастыря, но угрызения совести не давали ему покоя, он похудел от душевных переживаний, старый монах не раз приходил в его сон с букетом белых лилий и дарил ему при выходе из храма. Однажды в исповеди настоятель признался, что совершил великий грех, – владыка рассказывал, внимательно следя за Эдит.
-Я от кого-то слышала о Корвее, его высокой культуре,- ответила художница,-когда общалась с Наумом, очень начитанном монахе, но, возможно, тот и не был монахом-, при этих словах девушка смутилась.
- Корвей—это жемчужина эпохи ,-парировал владыка,- в корвейской библиотеке в начале XVI века были обнаружены копии первых шести книг "Анналов" Тацита. По сведениям ,копии
изготовлены в IX веке в монастыре одного немецкого города, а затем попала в монастырь Корвей, где на несколько столетий затерялась в огромном хранилище,- владыка скрестил руки, -я пишу об этом в своей книге, поскольку до созидания свободной обители изучал многие монастыри ,в том числе и Корвей, чтобы знать каким путем следовать. . По одной из версий, ученые из Италии, выдавшие себя за обычных паломников, в 1508 году обнаружили
манускрипт "Анналов" и тайно, без ведома монахов, увезли в Рим, где в 1515 году было напечатано первое полное собрание сочинений этого древнеримского историка. Однако манускрипт после этого из Италии не вернули, лишь направив печатный экземпляр. - владыка зачерпнул пригоршню морской воды и обдал ее Эдит, -вот такие дела, милая художница, нарисуй мне по воображению свой Корвей!
– Я поняла, к чему вы клоните, владыка, – Эдит отворотом блузы вытерла лицо ,-так и будем стоять? -спросила художница..
-Если я нашел тебя ,то можно уже и приютится у скалы, где меньше солнца, чтобы я мог услышать правдивую историю ,тогда я приму решение, вернуть ли тебя в наш новый Корвей, или…-он огляделся и шагнул к нависшей над морем скальной возвышенности, пробитой ступенями. На нижнем порожке он шумно присел и указал рядом с собой место для Эдит, которое она и приняла с покорностью.
- Исповедь Эдит
Той ночью, не дай господь никому попасть в такую ситуацию, я искала выход из тупика, вы догадываетесь, думаю, о какой ночи я говорю, так вот, я убегала от позора, вся мокрая, грязная и голодная, неожиданно во время перехода через перевал мне вышел навстречу п р и о р с цветущей белой лилией, он накинул на мои плечи кафтан, который сразу согрел тело и успокоил душу. Минуя перевал, спустились в долину, где сплошь шумело ржаное поле, посреди вылег пригорок, на котором возвышался маленький монастырь. Рассвет уже забрезжил, и блики зари охватывали купола.
– Я настоятель этого маленького мужского монастыря, – он улыбнулся, точно такой улыбкой, как вы мне улыбнулись здесь у моря, – в ночи я услышал глухие рыдания, они сотрясали горы так, что я оделся и вышел. Подойдя к горе, откуда доносился плач, я неожиданно увидел цветущую белую лилию, она сверкала в ночи и пахла так приторно, что я чуть не оступился, но с помощью именно белой лилии мне удалось подметить твой след. – Приор подвёл меня к сторожке, за стенами монастыря, – здесь ты сможешь прожить столько, сколько судьба даст тебе шанс, или возможность смыть кровь той раны, которую тебе нанёс п р е л ю б о д е й. Это слово удивило меня, но я была настолько слаба, что не придала значения, лишь спросила: – где я? Какое красивое место, ваша светлость, доносится шум морской волны, мы справа, или слева от террасы свободной обители владыки Амвросия?
Но приор уклонился от ответа. В ржаном поле, – сказал он, – когда отдохнёшь, поешь и выйдешь погулять, ты встретишь василёк, отраду моего сердца, каждый вечер ты будешь собирать васильки в букетик и бросать мне за монастырские ворота, у тебя всегда будет тарелка фасолевого супа и ломоть ржаного хлеба, по воскресеньям монастырские ворота распахиваются для всех, и ты можешь зайти в церковь и помолиться, это никому не возбраняется. Так я задержалась у приора, но только из-за прелестных васильков, они напомнили вашу обитель, где в придорожных рытвинах к террасам кустились милые сердцу васильки.
- – Судя по твоим синякам на ногах, сбитых в кровь, ты проделала очень тяжелый путь раскаяния, взяв лишь на память венок из васильков, – владыка усмехнулся, – да и платье твоё совсем потрепалось, так не годится молодой барышне ходить в заштопанном наряде.
В ответ Эдит не смутилась, лишь пожала плечами: – вы осуждаете меня за то, что я служила п р и о р у ?
– Да нет, Эдит, Пресвятая Богородица светит нам одинаково, – ответил владыка, – и если приор вышел на дорогу, когда тебе было очень трудно, и помог обрести себя, разве я могу сетовать на то, что ты молилась в храме католиков, главное, чтобы ты правильно молилась и помнила свою веру.
– Да, но со мной случился конфуз, и монашки меня прогнали, – она вздохнула, – я же хотела сделать как лучше, – она обошла владыку со всех сторон, словно изучая его мощную фигуру, которая в тени как бы господствовала на всём побережье Белого моря, – знаете, Ваше Преосвященство, в чём всегда моя главная вина, я д о б р а я, я пошла вся в мать, та умерла слишком рано, потому что была добра не только ко всем людям, но и тварям, цветам, жучкам, бабочкам, муравьям, просто, она понимала их язык и сочувствовала.
– И чем же ты не угодила монашкам? – владыка засмеялся, – ты прекрасна, как божественный цветок, раскрывающийся на солнце по утрам, даже в потрёпанной одежде.
– Вы мне это уже говорили, – помедлив, Эдит продолжила исповедь.
- В день празднования «Тела Христа» в монастыре у приора пошла кровь из носа, меня заметили в толпе, молящейся у картины Спасителя в Гефсиманском саду, приподняли с колен и шепнули, чтобы я срочно отправилась на поиски василька. У монахов было поверье, что если в этот праздник сорвать василёк чисто синего цвета, прямо с корнем, то таким растением можно остановить кровотечение, – Эдит вздохнула, – надо же такому случиться, но я обошла всё поле, сухие ржаные колосья хлестали в лицо, летали мошки и щекотали ноги и руки, я ползала по земле между стеблями колосовых, но везде были только белые или розовые васильки, а синего нигде не было, вы же знаете, что цветок Кентавра очень насмешлив, когда ищешь синий, он обязательно на пути исканий поменяет свой цвет и вырастет в любой другой окраске, но только не синей. Тогда я сорвала белый, зашла к себе в сторожку, окрасила лепестки синей пастельной краскою и поспешила на радостях, что сообразила, как надо поменять цвет коварного василька, к приору, который столько сделал для меня хорошего.
К вечеру, когда монастырский двор опустел, и закрылась церковь, вышел приор, его пальцы были в синьке, хотя из носа кровь более не шла, но он был очень бледен, словно отдавал богу душу, приор развернул ладони тыльной стороной, они тоже были испачканы синькою, и выдавил из себя: – у монаха нет семьи личной, у него одна большая семья, это его приход, но у него есть ч е с т о л ю б и е б р а т с т в а, это главное, что подпитывает духовный тонус монаха, укрощает строптивость гордыни, – приор взял меня легонько за плечо и выставил за монастырские ворота, прогремел засов, и я поняла, что потеряла свой кров, а ведь так всё хорошо начиналось во второй раз, как и в первый.
– Интересная история, – владыка улыбнулся, – ну, а мой василёк, тоже поддельный? – он стал разминать правую ладонь, – я так думаю, что мой уже был настоящим синим васильком, раз я так ловко управляюсь правой рукой, её более не сводит судорога, сок василька смягчил боль в суставах, – на лице Амвросия вспыхнула улыбка.
– Вы правы, ваш синий василёк настоящий, – сказала Эдит, – и уже гораздо позже, но всё же нашла во ржи василёк с таким чисто синим отливом, что даже защемило сердце, но приор обиделся и поделом мне!
– Ну, а флорин? – спросил владыка, – флорин Людовика IX? Откуда он?
– Вы подошли к самому интересному периоду моей жизни у приора, – Эдит усмехнулась, – вы подошли к тайне приора.
Эдит, приподнявшись, прошлась вдоль берега, окатившись волной прибоя, лишь вытерла мокрое от брызг лицо рукавом блузы, и продолжила исповедь.
- «Флорин от приора ещё в начале нашего знакомства, когда он прикрыл мои плечи кафтаном, – Эдит улыбнулась, вспоминая, – это сувенир за мою покорность и труд на благо монастыря. Приор был таким добродушным, нравилось то, что от него шло тепло, он не пах навозом или ладаном, он пах васильками, потому что я каждый вечер срывала ему цветы и складывала в букетики, потом относила их в его покои, если бы не этот мой прокол, точнее моя беспечность ,я бы и сейчас там жила скромно..
Когда приор показал мне свои пальцы в синьке, я сжалась и не от раскаяния за содеянное, а от того, что в его глазах застыли слёзы. Он сказал: – мне придётся отказаться от твоих услуг, Эдит, – приор вздохнул и вынул из разреза одеяния монету, вложив её в мою ладонь, – это флорин – память о моих предках, он заговорённый для одного единственного желания, при падении флорин высвечивает то, что будет задумано, – приор коснулся подбородка, как бы желая мне, чтобы я не падала духом, – ты была послушной девочкой, Эдит, и я, как мог ,удерживал твоё место в общем довольствии, но.., – он развёл руками, – твой василёк в синьке видели все братья-монахи и стали надсмехаться, они все решили, чтобы я прогнал тебя за п р е л ю б о д е я н и е, ведь ты входишь в монастырь слишком открыто, смущая своей бесовской красотой монашеский удел, а этот твой православный крест в инкрустации, он светится на белой груди даже в темноте; многое он мне говорил, однако попросил напоследок уединиться и подчитать один трактат, переводимый им с латыни. Мне пришлась, но что делать бедной девушкой в такой ситуации, смягчить его требы. Я же сказала вам, владыка, что очень добрая, – Эдит вздохнула, – но приор не остался в долгу, он подсказал мне дорогу, которую знал только он, но теперь знаю и я её, передохну у моря и снова в путь. Приор сказал так на прощание: – год назад я отпевал немолодую католичку Марию, мать принца Эди Миляховского, поместье которого раскинулось на пересечении троп. Лишь нужно запомнить два знаковых слова «Drumul vietii».
В разрушительном вихре столетий в пути всё же ещё остались намоленные камни, вещие знаки, по которым ныне ступает тень Спасителя, согревая нас в лишениях и невзгодах, это и есть, девочка, дорога жизни. Приор добавил, что принц Эдвард Миляховский поэт, а никто так не близок к восприятию божественного начала, как поэты; если святыми всегда двигало чувство о т к р о в е н и я, то поэты всегда подвластны озарению, порыву, в котором также есть доля божественного откровения, евангельского переживания, вокруг принца Миляховского ходит много слухов, легенд, домыслов, к нему приезжают знаменитости, художники, актёры, певцы, он устраивает вечера музыки, вернисажи картин детских рисунков, вот где тебе место, твоей неуёмной натуре и яркой красоте. Выйдя на дорогу жизни, лишь прижми к сердцу флорин, и он укажет тебе одну из петляющих троп к поместью принца, ты покажи Эдварду флорин и он, я думаю, примет тебя как сестру, не важно, что ты православной веры, принц Эдвард Миляховский открыт для всех. Вот я передохну у моря, соберусь с силами, подкреплюсь морской рыбёшкой, хотя, я выхожу на дорогу жизни ещё и потому, что однажды услышала это имя и от вас, и от монаха Наума, его созвучие мне чем-то импонирует.
Эдит закончила исповедь и пристально взглянула в лицо владыки. Тот лишь отвёл взор в сторону, сказав, словно самому себе:
– Значит, Марии нет,- сказал он тихо, как бы самому себе. Отвернувшись, он смахнул слезу, не желая, чтобы Эдит что-то заметила в перемене настроения.–, – я сделал вывод, что ты отказалась от первого и единственного желания, отдав Сусанне флорин, но почему, Эдит? Сувенир приора, который бы мог дать тебе кров, постель, роскошный ужин в поместье, к тому же, ты молода, хороша собой, талантлива.
– Прежде всего, я не отдала флорин, а подарила Сусанне, в тот миг меня волновала не моя дальнейшая безоблачная жизнь, а ваша правая рука, ведь по моей вине её свела судорога, и я загадала желание, чтобы при падении флорин обернулся синим васильком, так и случилось. – Эдит говорила спокойно и размеренно, – а если мне суждено выйти на знаковую дорогу, то это случится, рано или поздно, с флорином от приора, или без...
– Эдит, дитя цветов и вздохов природы, ты завоевала моё сердце окончательно, – владыка был тронут её поступком, признанием, – только учти, в жизни всё невозможно просчитать, расставить по полочкам, тогда лишь остается уповать на Бога.
Эдит усмехнулась: – э, Ваше Преосвященство, если бы я уповала только на Всевышнего, я бы растворилась только в тени своего греха, а так, познав вкус и тайну материнства, я готовлю себя для будущего, более достойного отца моих детей, – и она вздохнула. – Связать свою жизнь с пастухом, даже если он и мужчина в соку, провести жизнь в овечьем навозе, нет уж, лучше жить впроголодь в поисках вечной дороги жизни.
– Но исчезла Евлампия, не возвращается Луис уже вторую весну, он всё ищет тебя, – сказал владыка, удручённый откровением. И после молчания тихо промолвил: -так значит это пастух Антоний…
– Не поняла вас, – смутившись, продолжила, – а вот Л у и с? Да, Луиса мне жалко, я растлила его, но он был таким пахучим, таким неопытным, что я получала от него не столько удовольствия как от Антония, а сколько блаженства от сознания того, что мальчик был у меня первым, но... – она развела руками, – если нам суждено, то мы снова встретимся.
– Ну и логика! – владыка рассмеялся, – ты пришла к нам, в свободную обитель, чтобы взять от нас всё, что мы имеем, что накопили долгим опытом познания. А мы увидели твою красоту и талант, ведь ты рисовала многих из нас, а потом всем дарила свои рисунки, ничего не требуя взамен, – владыка вздохнул. –Я не досмотрел, слишком был занят монастырскими делами, своей рукописью, и проглядел молодую человеческую жизнь, я готовил тебя для встречи с Эди, но … значит, я не такой провидец, как все считают.
– Что за грустные нотки, – сказала Эдит, – просто, приор был ближе к дворянскому замку польских шляхтичей, – Эдит слегка коснулась правой руки владыки, – у вас красивая ладонь, большие холёные пальцы, розовые ногти, как ровно вы их подточили, если облачить вас во фрак, то вы бы затмили по красоте любого принца, – Эдит рассмеялась, – ну а ваш Эди, или Эдвард Миляховский приора, разве не всё ли равно, я к ним безучастна, друг мой, как жаль, что на вас эта противная сутана!
Владыка рассмеялся: – я открыт для тебя, Эдит, – он перелистал рисунки, остановившись на одном из них, – как чётко, контурно ты выписала тень, упавшую от спины высокого монаха, тень, в которую ты однажды вошла и так не хочешь из неё выйти.
Эдит смутилась, однако, была польщёна, ведь владыка оценил её работу.
– Мои рисунки скрадывали моё одиночество в пути, мои груди были полны материнского молока и они так болели, – она взяла правую ладонь Амвросия и ввела в разрез блузы… – Уже наступила новая весна, а белая роза вся в страданиях, даже ваш крест не смягчает боли, – Эдит вскоре вывела руку и поцеловала в запястье, владыка в ответ лишь улыбнулся, потом спрятал ладонь за спину.
– Наш цветущий монастырский луг, айвовые деревья, свежий ветер, доносящийся из-за гор, шум морского прибоя, – владыка покачал головой, – невинные овечки, бродившие по лугу, седой пастух, которому я доверял, спешивший в мой дом с кружкой парного молока, – Амвросий задумался, –ему было мало? С виду кроткий, как овечка, вынес мою книгу, ведь он был из тех, кто знал, где хранится ключ к рабочему кабинету.
Эдит, смутившись, тихо ответила: – виновата я, Ваше Преосвященство, это я толкнула его на великий грех. Мне вдруг пришла в голову мысль проиллюстрировать вашу рукопись рисунками, но толком о чём книга, я не знала, хотя однажды держала в руках, но тогда ещё не думала об этом, всё пришло позже, – девушка шумно вздохнула…
В ту ночь перепутала тропы, дождь шёл сплошной стеной, я хотела войти в келью Луиса, но сил не хватило. Я и зарыла деревянный ящичек с вашей рукописью и сгустком крови моего греховного падения под водосточной трубой, не придав значение тому, что эта часть вашего дома, почему я так сделала, не могу дать ответ и сейчас...
– Не будем больше возвращаться к содеянному, Эдит, – тихо ответил ей владыка, – ты прошла путь покаяния, к тому же вылечила мою правую руку от судорог соком синего василька, – Амвросий вернул Эдит планшет с рисунками, – забудем прошлое, лучше подумаем о настоящем. Ты теперь знаешь, где находится ключ, я оставил ,всё как было, открой входную дверь, и положи все эти рисунки на мой рабочий стол рядом с будущей книгой, возможно, они пригодятся для иллюстраций, мне надо кое с кем посоветоваться.
– Что?! – Эдит вскрикнула, – вы принимаете мои рисунки для книги, – она захлопала в ладоши, – какой вы добрый, владыка, вам воздастся не только на том свете, но и здесь, на земле!
– Ну, не хорони меня, – он засмеялся, – кто знает, насколько совершенна книга, лишь потом отправляйся на поиски принца Эдварда Миляховского, приор был прав, там тебе будет легче, чем в монастыре.
Эдит сорвала с головы венок из васильков и с размаху бросила в море, волны тотчас подхватили его и понесли по течению. Таким жестом Эдит выразила свою радость и полное согласие с доводами владыки. Пришла пора прощаться. Она припала на колено и поцеловала край его облачения, он приподнял девушку, осенив её крестным знамением, вошёл в море, однако, оглянувшись, добавил сурово:
– Негоже, Эдит, искать дорогу к принцу в блузе, пропахшей овцой, к тому же без пуговиц. В нижнем выдвижном ящике письменного стола лежит пакет для тебя, который приготовил ещё в прошлую весну, обнову я привёз из далёкого путешествия, ты помнишь, что одно время я надолго отлучался, – владыка с шумом бросился в море и, разрезая высокую волну, не оборачиваясь, крикнул: – только не плыви за мной, Эдит! – после этих слов он нырнул под волны и скрылся в морской пучине.
– Да я не умею плавать, – Эдит смеялась ему вслед.
Потом Амвросий вынырнул, крикнув :-только если встретишь пастуха Антония,не говори ему про Эди, это наша тайна, детка!- взмахнув руками, поплыл в сторону наскального острова. Его владыка облюбовал в последнее время для новых размышлений и монашеского отречения от суеты мирской, особенно, когда наступали многотрудные посты. Здесь, в глубине скалистого острова, вынесенного стихией в прошлую весну, не ощущалось запаха пищи, чужих голосов. Лишь витала тайна преображения внутри острова…
Эдит же, проводив взглядом владыку, пока он скрылся под новой волной, прижав к груди планшет с рисунками, вышла к тропе меж плоскогорьем, с тыльной стороны свободной обители и так задворками, минуя монастырский луг с отдалёнными кельями, оказалась у порога очень знакомого ей дома.
Охранник владыки поливал в тот момент гиацинтовый сад и не заметил Эдит. Решившись побыть сама в кабинете Его Преосвященства, без посторонних лиц, она вынула ключ из отверстия под водосточной трубой, вдруг всплакнув, но тут же смахнула скупую слезу и, вздыхая, открыла входную дверь. Пройдя в кабинет, неожиданно замерла от предвкушения тайны преображения главного монаха свободной обители. На большом столе, среди прочих бумаг, лежал свиток папируса, раскрытый где-то на середине с пометками красным карандашом. Эдит распахнула планшет, вынула рисунки и сложила их там же, посредине рукописи, потом отодвинула нижний ящик, в котором действительно лежал сверток с одеждой, она сложила его в планшет и захлопнула.
– Ах ты, воровка!– вдруг услышала за спиной хриплый голос, – как ты сюда попала? – старец ухватил Эдит за плечо, но она вывернулась.
– Не мельтеши, старик! – ответила она, – неизвестно кто из нас больше вор!
Эдит отходила к двери спиной, – сам владыка разрешил мне войти в его кабинет.
– Какой ещё владыка!? – негодовал старец, – да его вообще нет в этом пространстве, – старец неожиданно перешёл на шёпот, – владыка ведь не простой монах, как я, например, он контролируется свыше Пресвятой Богородицей и потому не всегда волен в своих поступках, он делает то, что О н а ему повелевает.
Эдит усмехнулась и, воспользовавшись замешательством старца, который споткнулся о ковёр, выскользнула на крыльцо, здесь вздохнула спокойнее, почувствовав морской ветер и свободу.
– Он что, пришелец из космоса? – переспросила.
– Он посланник, – старец махнул рукой вверх, – на этом месте, где сейчас повсюду такая красота, где он рассадил весною от луковицы редкого сорта Гиацинта «Мария», вот этот сад, благоухающий всё лето, хотя сами гиацинты цветут только по весне. Здесь всё было выжжено, пустынно и дико, лишь задержался один намоленный камень, откуда неслись песнопения. Услышав молитвы из камня, отчётливо лились песнопения «Отче наш...», своей правой рукой возвеличил из белого камня церковь, свободную обитель, приютил и меня, и тебя, дуреху, которая закопала свой гробик с греховным плодом под дом владыки, но он простил тебя, неотёсанную!
– Ну, ладно, старик, – отмахнулась от него Эдит, – я это уже слышала.
– Да ты плохо слышала, – он пытался поймать Эдит за руку, но она снова увернулась.
– Отстань от меня!
– А ты знаешь, милая художница, – старец пытался донять Эдит ехидством, – чем написана Книга Монаха? – охранник снова перешёл на шёпот, словно боялся, что их услышит ветер и донесёт владыке.
– Правой рукой, – она засмеялась, – которую позже вылечил от судорог сок синего василька.
Пришло время уже рассмеяться седому монаху, охраннику Его Преосвященства: – слушай меня внимательно и сразу уходи отсюда. Книга Монаха написана п л о т ь ю.
– Ну вот ещё! – Эдит засмеялась, – жаль, что эта плоть не мне досталась, а книге..!
– Дурёха! – старец перекрестился, -что в свитке папируса много энергии, биотоков.
– Когда энергии в избытке, это тоже плохо, – художница вздохнула, – он такой сильный, купается и в шторм в холодном Белом море.
– Он поплыл на остров? – старец вдруг засуетился, – значит, ты и вправду видела владыку? Прости меня, – и он попытался снять с юбки Эдит соринки.
– Да не лижи меня, старик, – она усмехнулась – почему-то у всех стариков вошло в привычку меня опекать, я сама по жизни справляюсь и без советчиков.
Эдит уходила, однако вспомнила про Заклинание и решила снова попробовать, сказать заветные слова: «Наум, я твоя!» После этих слов Эдит, поняв ,что заклинание ей под силу, ,снова приблизилась…,что предстать в желаемый предмет.
У порога Преосвященного Амвросия шелестел на ветру высокий куст розы, только её бутоны были красными. «Почему белая роза стала красной, Наум?» – Спросила она уже в пути, – лишь порывы жаркого ветра обжигали лицо, слова от Наума уносились к горам.
Меж тем старец, закрывая входную дверь, вдруг заметил у порога куст розы в красных полубутонах. Он спустился с крыльца, обошёл трижды невиданный красоты кустарник розы и внимательно посмотрел на небеса, окончательно убедившись, что владыка Амвросий посланец Пресвятой Богородицы, раз сами розы всходят не от клубней, а от ощущения какой-то ауры вокруг самой монастырской обители.
Он срезал пять высоких роз, сдунул с них росу и внёс в кабинет Его Преосвященства, забыв в тот момент про Эдит, налил в вазочку воды и поставил цветы посреди стола, в аккурат у свитка папируса, надеясь обрадовать владыку. Но в раскрытую фортуну влетел порыв ветра, и сквозняком столкнуло вазочку с розами, вода разлилась, замочив свиток папируса.
– О, силы небесные! – старец перекрестился, стал рукавом стряхивать воду с рукописи, сокрушаясь своей неуклюжести, потом поставил вазу с букетом на подставку у образа иконы, – наверное, это к плохому! – подумал он, – чего я так обрадовался и поддался срезать бог весть как появившиеся у порога цветы.
Постоял в раздумье, но розы были так прекрасны, что он не решился их более трогать, захлопнул фортуну и вышел на крыльцо, закрыл дверь, но ключ взял с собой, от греха подальше в этой странной свободной обители. Вздыхая, направился в сторону гиацинтового сада, который успокаивал всех, кто приезжал в монастырь отдохнуть душой.
Эдит миновала обитель и присела накоротке, сожалея, что не взяла даже фляжку воды с собой. Она вспомнила о подарке. Открыла планшет, разорвала бумагу и развернула на траве.
– О, Пресвятая Дева Мария! – воскликнула Эдит, – из её рук вмиг разбежалось шелковое платье в мелких тёмно-пурпурных цветах, которых сразу признала художница и стала целовать на платье каждый цветочек, приговаривая: – мои милые ключики, примулки нежные, какой роскошный подарок! Я даже не мечтала о таком, – Эдит сбросила блузу и одела через голову платье, которое легло на её фигуру так, словно девушка в нем родилась. Она провела ладонями по складкам, отыскивая карманы, и вдруг расхохоталась от удовольствия. Собрав в комок старые вещи, она заложила их в трещину земли, прикрыв травой; несколько успокоившись, прилегла прямо в новом платье, подложив под голову планшет в предвкушении особой дороги.
Впервые в жизни Эдит колебалась, то ли искать заветную дорогу жизни, указанную ей приором, или отправиться наперекор судьбе к скалистому острову в ожидании, когда на побережье ступит нога Амвросия. Из-за туч выплыл тонкий белый месяц, сами же облака над горами казались бирюзовыми, то и дело нагоняя месяц и прикрывая его своей лавиной. Сгущались сумерки и Эдит, поднявшись, решила найти место где-то в ущелье, чтобы переночевать. Под руками обкрошился кусочек камня, и вдруг она увидела, как просвечивается вход, рука у девушки была натруженная и тяжёлая, она сбила ребром ладони продолговатый осколок, упавший от большого камня, и втиснулась в отверстие. Сквозь скалы, словно разрывая их изнутри, тянулась каменистая тропинка, по обе стороны которой разрослись высокие, причудливой формы кактусы, все усыпанные цветами нежно-розового оттенка. Она спрыгнула прямо на тропу, коснувшись плотных мясистых листьев кактусов, росших вокруг соцветия по четыре, в виде креста. Эдит обмерла: – так это же и есть дорога жизни! – подумала она, вспомнив, что и мать её называла эти кактусы в крестообразном расположении крестным ходом.
– Дорога к принцу Эдварду Миляховскому, – сказала она вслух, – дорога, которую ей предсказал приор, даже после того, как обменяла флорин на синий василёк, чтобы его соком вылечить правую руку владыки, даже тогда ей открылась эта заветная дорога!
Как никогда Эдит за много месяцев была поистине самой счастливой в эту минуту, да к тому же на ней было новое шёлковое платье на подкладке и ничего теперь не просвечивалось! Эдит рассмеялась, раскрыла планшет, присела у обочины и сделала набросок тени, падающей от самого высокого кактуса. Потом художница прилегла на спину, задремав с пастельным розовым карандашом в руке.
- Предвкушение. Меж тем, в поместьях Эдварда Миляховского готовились к восприятию прелестей театра, представление принц всегда начинал устраивать в канун Пасхи. На этот раз он подготовил для детей близлежащей округи инсценировку сказки «Пеппи – длинный чулок», ходили упорные слухи, что появится сама Астрид Линдгрен. И в то звонкое утро, в ожидании предвкушения встречи со знаменитой сказочницей, у которой нет возраста во времени и в пространстве, экипажи принца прочёсывали дороги к поместью, разбрасывали душистое сено по обочинам, если ненароком Астрид вырвется на «Drumul vietii».
От громкого и разноголосого щебета птиц проснулась и Эдит, вдыхая настоенный запах трав, привстала, очищая новое платье от соринок, мимо стремительно пронёсся экипаж, в открытое окно на мгновение она увидела большую руку, державшуюся за раму, белые холёные пальцы с отточенными розовыми ногтями чем-то напомнили ей правую руку Преосвященного Амвросия. Эдит вздрогнула, вскочила с места, однако рессорная повозка пронеслась так стремительно, лишь следом открылось белое облако.
– Ничего себе, – сказала Эдит, – не может быть! – девушка раскрыла планшет, вырвала из альбома лист и машинально стала делать набросок пронёсшегося меж цветущими кактусами экипажа. Порыв ветра понёс рисунок и закружил в воздухе над дорогой. Художница вскочила, чтобы поймать, но ветер упал и на листы в планшете, подняв их, так разлетелись все бумаги. Эдит захлопнула альбом и бросилась собирать рисунки, в ту минуту на поворот вырвалась другая повозка, но более экзотичная, и девушка в подхвате за листом бумаги чуть не угодила под колёса. Экипаж резко затормозил, дверца распахнулась и на землю соскочила дама в широкой шляпе.
– Ох, мадам, – вздохнула Эдит, – я вам признательна, вы спасли мой планшет, он мне так дорог, вы даже этого не можете представить, здесь ещё и пастельные карандаши, подаренные Наумом, моим названным братом, – Эдит явно слукавила.
– А жизнь тебе не дорога?– дама усмехнулась, приподнимая с колен девушку, собиравшую разлетевшиеся по ветру рисунки.
Незнакомка приблизила рисунок к глазам и, рассматривая, сказала: – а ты хорошо вывела полутени, – она оглядела Эдит с ног до головы, в тот миг их взгляды встретились, Эдит, всмотревшись в лицо дамы, вскрикнула, всплеснув руками:
– Доброе утро, фея Астрид Линдгрен! Вам всё нет возраста! Вы такая же, какой я знала вас пятнадцать лет назад, когда мама читала мне в колыбели ваш «Пеппи – длинный чулок», поистине, он безразмерный…
Глаза незнакомки смеялись: – пусть будет по-твоему, раз ты признала во мне Астрид Линдгрен, – и сказочница оглядела платье Эдит, – твоя примула на платье так совершенна, вначале мне показалось, что на твоём шёлке весна, всё цветы живые, мне лишь остается узнать твоё имя, прекрасное дитя цветов.
Девушка представилась, и они уже вместе стали собирать разбросанные на траве рисунки и складывать их в планшет.
– Я не спрашиваю, как ты здесь оказалась, но раз попала на «Дорогу жизни», значит, путь один, в театр принца Миляховского, – Астрид смеялась, хотя, надо полагать, что ты уже давно выросла из младенчества, ведь принц приглашает в свой театр только детей, – помедлив, она добавила, – молодых же особ охрана не подпускает даже близко к поместью, к тому же, в тебе много секса, дружок!
– Принц не любит женщин? – удивилась Эдит, – разве плохо, что Господь одарил меня красотой тела?
– Нет, не то что не любит, просто, так я слышала, он их к себе не приближает из-за коварности оных нравов, – фея смеялась, – говорят, в нём нет плоти, но.., – Астрид похлопала по плечу художницу, – ты принесла мне радость ощущения живой примулы, воспетой ещё Шекспиром, которым я была увлечена в молодости, поэтому на один вечер я назначаю тебя моим секретарём, – с этими словами Астрид легко вскочила на подножку экипажа, увлекая за собой и Эдит с планшетом, тотчас экипаж сорвался с места.
– Мэм, – обронил вдруг кучер, взяв разгон по «Дороге жизни», не поворачивая головы, – вы знаете, что принц Эдвард слепой?
– Напротив, – парировала Астрид, – я же слышала обратное, что он всегда видит лишь то, что хочет видеть.
– Есть люди, которые слышат затылком, – сказала Эдит, – если принц слепой, то как же он мог сделать инсценировку сказки долгожительницы «Пеппи – длинный чулок»?.
– Никакой нет хитрости, просто, чулок у Пеппи такой длинный, что он из Швеции растянулся до Белого моря, – кучер прочертил в воздухе кнутом, да так легко, что не задел гривы лошадей.
Астрид, польщенная, рассмеялась и бросила в сумку кучера ещё дополнительный шиллинг.
– Мэм, откуда у вас шиллинг? – кучер продел руку, ощущая вес монеты.
– От лорда Биконсфильда, – Астрид расхохоталась, – если вы помните ту романтическую историю этого великого государственного деятеля с его цветком, пылкой любовью к примуле. Кажется, он никогда не появлялся без этого цветка в петлице, ни в парламенте, ни на балу, ни на приёмах у королевы, – и Астрид обняла Эдит за плечи, – ну, барышня, принц Эдвард сразу прозреет, при виде обилия примулок на твоём шёлковом платье, ведь они так искусно вышиты гладью , как живые!
Так, переговариваясь с кучером, Астрид и Эдит подъехали к главному входу в поместье принца. Экипаж встречал сам хозяин, преклонив колено, целуя ручку гениальной сказочнице, помогая выйти из экипажа по ковровой дорожке. Эдит, не заставив себя долго ждать, выскочила следом, внимательно разглядывая правую руку принца, которой он придерживал под локоть новоявленную Астрид Линдгрен.
– Что вы здесь делаете? – не оборачиваясь, спросил принц у Эдит, – мы приглашаем на карнавал сказки лишь детей!
«Я же сказала, – подумала Эдит, – что этот Эдвард видит затылком».
– Уберите её с моего пути, – желчно бросил принц, – и кивнул головой в сторону Эдит, однако Астрид жестом остановила попытку слуг принца вытолкнуть Эдит за ворота, как это было со всеми молодыми барышнями, которые покушались на свободное пространство вокруг поместья.
– Это мой секретарь, – улыбнулась сказочница, – она безобидна, как сама примула, ваша светлость, – разве ваше тонкое обоняние не уловило аромат первенца весны, которым усыпано её модное платье? – и она обняла Эдит за плечи, – вместе с Пеппи – длинным чулком к вам приехала и весна, примула открывает её ворота своими ключиками.
Так благодаря бесхитростным увещаниям доброй феи в облике Астрид Линдгрен Эдит вступила в поместье принца. Повсюду играла музыка, дети раскачивались на качелях, услышав про Астрид Линдгрен, тут же все бросились к фее, окружили, целуя ручку.
– Дети мои, я же не священник! – говорила она и дарила каждому фантик со своим автографом, на котором можно было загадать желание ,и в недалёком будущем фея пообещала исполнить каждое, лишь бы на фантике был разборчив детский почерк. Так, например, Кристина из округи поместья принца выразила желание, чтоб Астрид купила ей белый автомобиль. Это вызвало бурю эмоций и внесло некоторую разрядку в атмосферу напряжённости принца по отношению к Эдит. Хотя, двое юношей одетые в пажей, тайно заспорили меж собой, охватывая фигуру Эдит пылкими взорами, один из них сказал, что на платье Эдит проросла живая примула, потому что барышня так свежа и хороша собою, таким пышет здоровьем, что так и просятся к поцелую все её цветы.
Другой же более застенчивый высказал догадку, что девушка приклеила к платью засушенные цветы. Услыхав спор пажей принца, к ним приблизилась сама виновница и разрешила юношам потрогать шёлк её платья, чтобы те убедились в коварности примулок, причём, высокая фигура Эдит слегка качнулась, из глубокого выреза платья во впадине груди мелькнула белая роза с красными разводами на лепестках.
– О..! – сказали они вместе, не отрывая глаз от примулок, естественно.
Однако что-то не понравилось принцу в атмосфере, возможно, учащённое дыхание его пажей, и он снова обернулся в сторону Эдит.
– Что за запах появился с той минуты, когда фея моей юности, – тихо сказал принц, – переступила черту дозволенности моего дома.
Он держал Астрид правой рукой под локоть, слегка поправляя вуаль на шляпе сказочницы.
– Ваша светлость, – ответила Астрид, – хотя мне девяносто пятый, но я ни с чем не спутаю этот запах, – и она окинула взглядом красивую фигуру Эдит, – это запах п л о т и, субстанция её дышит в каждой примуле на шёлковом платье той, которую я взяла на вечер в свои секретари, потому она для вас в данный момент не представляет опасности, пока я с вами, – и Астрид вновь набросила вуаль на своё лицо, – подойди к нам ближе, дитя цветов, – она кивнула Эдит, – пусть и для тебя, маленькой художницы, этот вечер тоже будет сказкой.
– Маленькой художницы? – принц задумался.
Эдит же никогда не считала себя робкой, но вдруг задрожала. Астрид со свойственной только ей широтой европейских взглядов, освободила свой подлокотник от правой руки принца, и опустила его жёсткую ладонь на пульсирующую волнением грудь Эдит.
– Вы слышите, ваша светлость, – как бьётся сердце весны? – спросила фея.
Большие холёные пальцы принца нечаянно попали в вырез платья, или того хотела сама Астрид Линдгрен, кто сейчас точно представит информацию, но так или иначе Эдит ощутила холод прикосновения мужской ладони и вздрогнула, словно укололи шипом.
– Мне никто не говорил этого странного слова, – и принц произнёс по слогам, – п л о т ь, – Эдвард сам вывел руку из выреза груди, провёл по волосам, затем по спине и задержал ладонь на пояснице.
Эдит забила дрожь от такого грубого обследования её утончённой фигуры, но она боялась сопротивляться, интерес художницы был превыше низменных ощущений, она уже представляла, как рисует принца.
– Теперь я чувствую запах, – тихо сказал он, – это и впрямь дыхание примулы, – принц провел рукой по плечам и стал перебирать женские волосы, – когда я был маленьким, моя мать была ещё жива, но уже прикована к постели, я любил, гуляя по саду, набирать самостоятельно воду из родника. И вот однажды под вечер ко мне приблизилась одна девочка и что-то дала в руки. Наощупь взял подарок, поняв лишь, что это цветок и, смутившись от прикосновения, я быстро побежал к матери, протянул ей цветок. Она вдруг вскрикнула: –Эди! Дорогой Эди, да это же жёлтая примула, ключик к весне, – и мать прижала меня к своей груди, осыпала поцелуями от радости, – втяни запах, сынок, и ты никогда ни с каким его не спутаешь, – Эдвард вздохнул, – какая жалость, что нет со мной сейчас мамы.
Пристально вглядываясь в лицо принца, фигуру, высокую и красивую, густые чёрные волосы, оклад бороды, большие руки с белыми холёными пальцами и аккуратно подточенными розовыми ногтями, Эдит ловила себя на мысли, что подобное она уже видела в облике Амвросия, только без монашеского одеяния и гораздо моложе, но что-то сквозило очень похожее, то, что определяет отца и сына.
Вот только глаза.., художница сразу не могла определить их цвет, словно там зияла пустота, сами же зрачки, окутанные пеленой, были непроницаемы, что скрывалось за их пеленой? Эдвард Миляховский, меж тем, попросил Астрид подвести к нему ту девочку, Кристину, у которой загаданное желание на фантике начиналось с автомобиля. Сделав реверанс перед принцем, она припала к его правой руке, что удивило Эдит, однако Эдвард отвёл руку.
– Кристина? – лишь спросил он.
– Кристина, ваша светлость, – и девочка вновь сделала реверанс.
– Скажи, Кристина, – спросил тихо принц, – секретарь нашей доброй феи Астрид, молода, хороша собою, опиши её внешность, только очень бегло.
– Да, ваша светлость, – улыбнулась Кристина, окинув взглядом Эдит, – она очень красива.
– Её платье украшает, или она сама украшение платья? – допытывался принц.
– И платье у неё чудесное, по белому шёлку высыпали тёмно-пурпурные ключики, примулки, моя мама называет их ещё баранчиками, у нас дома по весне их целый двор, только примулки белые, – отвечала девочка, – и сама она прелесть.
– А её грудь? – принц был настойчив, – она обожгла мою ладонь, – и Эдвард развернул тыльной стороной правую руку.
Эдит сразу смутилась, трудно было понять, что стало причиной сильного волнения, расспрос о внешности её, или строение правой ладони принца. Сердце у Эдит глухо забилось, это заметила Астрид и попыталась спасти положение.
– Ваша светлость, юная художница вышла из сказки на «Дороге жизни», – улыбнулась Астрид, – будь бы я мужчиной, зацепил с ходу!
– Не убедительно, – и он снова протянул руку, ища присутствие Кристины, – дай более разумный ответ, почему я почувствовал ожог на правой ладони?
– Ваша светлость, – ответила бесхитростно Кристина, – наверное, в них много молока, может, энергия примулок кипятит его в молочных железах?
– Вот это разумно, – усмехнулся принц, – я заметил, чем меньше ребёнок, тем он умнее и его ответ всегда меня удовлетворяет.
Эдит же польщённая, не менее чем Кристина всеобщим вниманием, обняла девочку и поцеловала в плечо.
– Ну, а что касается нас с Астрид, – ответил принц, – то Кристина получит на Пасху белый автомобиль, находчивость других детей я могу также приветствовать особыми подарками.
Дети потянулись со своими фантиками к Астрид, которая собирала их в свою шляпу, перемешивала и делала очень важный вид, будто бы она ладонью читает главное желание ребёнка на самый любимый праздник – Пасху.
Хотя, кто знает, теперь спустя век, на самом ли деле приехала из далекой Швеции в пространство вокруг Белого моря по его левую сторону, прекрасная Астрид Линдгрен в свои девяносто пять лет, ибо когда сказочница входила в наши новеллы, ей шёл девяносто пятый, или, стремясь преподать детям пасхальный сувенир, принц Эдвард Миляховский обворожил одну из поклонниц «Пеппи – длинный чулок», вложив в её руки веер обольстительной феи-сказочницы Астрид Линдгрен.
Эдит провела ладонями по платью, которое вздыбилось под порывом шального ветра и как бы распахнулось зонтом, остаётся лишь сожалеть, что суровый молодой принц не уловил хрупкость фигуры и симметрию пропорций тела Эдит.
Прижимая к груди планшет, художница отошла на несколько шагов от принца и Астрид, занятых разборкой детских желаний на фантиках. Разглаживая складки платья, рука Эдит машинально коснулась одной примулки, растение зашуршало в ладони художницы, а сам цветок выдвинулся к указательному пальцу, словно ожил, девушка размахнула подолом платья, вдыхая тонкий аромат.
– Здравствуй, Эдит, – вдруг услышала она нежный голосок, – я ключик богини весны Фрейи, а в канун Пасхи моя госпожа даёт и тебе шанс на счастье. Ты можешь загадать одно желание, лишь не ошибись в выборе, но загадай на себя, чтобы не случилось так, как с синим васильком, – и ключик засмеялся.
– Ты и про это знаешь, – Эдит однако не расстроилась, что все цветы знают её грехи, – спасибо, аурикула, я узнала тебя, горная красная примула, когда я у скалистых гор разворачивала платье, подарок Его Преосвященства, ты упала с вершины и прилипла к другим ключиком, я не заметил тогда из-за сумерек, а вот потом забыла потрогать все примулки, уж я бы точно нашла живую, – сказала Эдит и развернулась лицом к принцу.
Загадав желание, она неслышно воткнула аурикулу в петлицу фрака Эдварда Миляховского и потихоньку стала отходить.
– Кристина – вновь сказал принц, почувствовав близко запах цветка, – какой цвет у этой примулы?
Вокруг Кристины собралось много детей и все они в голос крикнули: – Красный! Красный! Ваша светлость, примулу воткнула вам в петлицу секретарь Астрид Линдгрен!
– Пусть девушка назовёт своё имя, – попросил принц, – я вдруг потерял ощущение запаха примулы!
– Девушку зовут Эдит, – сказала фея, – но она исчезла, а я наказана за свою доброту.
– Как исчезла? – удивился принц, – я дышу запахом её волос, она в толпе детей, близко…
– Нет, ваша светлость, её нет и в толпе детей, – сказала Астрид, – я слукавила, как всякая сказочница, она встретилась мне на «Дороге жизни», собирая разбросанные ветром рисунки среди кактусов, и чем-то приворожила меня, может, красотой своей симметрии, – Астрид улыбнулась – я всё в жизни люблю симметричное! – и добавила, – а Эдит рисует красиво.
– Значит, Эдит ещё и художница, – недаром моя мать не любила костюмеров и художников, – правой рукой принц нанёс себе удар в грудь, чем-то очень взволнованный, – нет, Эдит, ты зря исчезла, я закрою весну на ключ и тебе долго придётся стучаться в парадную дверь.
Принца колотило всего от ярости, тогда Астрид, успокаивая, попросила одного из пажей включить музыку, и с увертюры начать спектакль сказки «Пеппи – длинный чулок», вдруг Эдит в пути запутается в этом чулке и вернётся назад.
Дети, меж тем, стали рассаживаться на свои места, которые были вытесаны прямо на террасах, на склоне же раскинулась сцена, бархатный занавес словно упал с небес, и под овации детей выпрыгнула из своего чулка Пеппи и стала выделывать всякие кренделя.
– Возможно, Эдит – секретарь нашей доброй и прекрасной сказочницы, превратилась в примулу, которая теперь в петлице у принца, – крикнула Пеппи, – дети зашумели и обратили свои взоры к петлице Эдварда.
Однако принц был закрыт для восприятия эмоций: – в этом будет её счастье, – вдруг отрывисто и жёстко сказал он, – иначе я посажу Эдит с крысами.
– Пеппи, – приказала Астрид, – не выходи за рамки текста, – сорвёшь представление.
Однако Пеппи не слушалась советов доброй хозяйки: – я не уверена, – крикнула она очень громко, – что и крысы не будут очарованы её красотой, – и Пеппи растянулась на сцене, изображая длинный чулок.
Принц резко поднялся, ему тоже не понравился вольный сценарий любимой его сказки, однако не стал мешать Пеппи. Поцеловав ручку Астрид, он выбрался из амфитеатра, вскочил на белого коня и, пришпорив, понёсся в сторону «Дороги жизни».
– Бог мой! – промолвила добрая фея, – но принц же слепой! Как можно отпускать его одного без охраны, – стала сетовать Астрид.
– Принц слепой, но белый конь зрячий, – крикнула со сцены Пеппи, – вы плохо знаете Эдварда Миляховского, ведь принц на коне с рождения!
Дети захлопали в ладоши, удивлялась Пеппи под новой маской и сама сказочница.
– С рождения? – удивилась Астрид, и, боясь сорвать спектакль, фея приподнялась с места, взяла под руку пажа принца и шепнула ему на ухо, – давайте покинем театр, пусть дети сами разбираются и ставят спектакль так, как им нравится.
– Но Пеппи права, – ответил паж в тон восторгу детей, которым понравилось выражение, что принц на белом коне с рождения, – заметьте, мэм, какие овации.
Спектакль продолжался, постепенно входя в своё прежнее русло сказки, текст которой, желая понравиться Астрид Линдгрен, отшлифовал сам принц.
– Вот именно с рождения, – повторил паж, – Пеппи права, – и он увлёк Астрид в сторонку, зашептав, – я слышал, моя добрая фея, ещё от отца, который ухаживал за больной Марией, хозяйкой этого поместья, суровой католичкой, в одну из тёмных ночей мальчика привёз на белом коне м о н а х.
– М о н а х? – фея разворачивала конфетку-жвачку, любуясь фантиком, – это я слышу впервые. Разве монахи скачут на конях?
– Не могу сказать точно, может, он приехал и на автомобиле, – промолвил паж, – я был тогда инфантилен умом, но думаю, мэм, мой отец знал всё это до мельчайших подробностей, однако он унёс тайну в могилу.
– Нет, меня не удивил белый конь, – сказала в глубоком раздумье Астрид – почему именно монах? Может, это был просто священник, у монахов же нет семьи, такой они себе избрали у д е л.
– Нет, мэм, это был монах, и не простой, а высшего сословия.
– П р и о р ? – удивилась Астрид.
– Нет, мэм, – продолжил паж Эдварда, – когда она отходила в мир иной, её исповедовал приор, друг покойного мужа, так тот, разумеется, был католиком, а монах пришёл с митрой в ту роковую ночь, к тому же принёс иконочку с ликом Богоматери, при входе с зажжённой свечой стоял я, он же протянул мне для поцелуя нагрудный крест, разве мог я забыть тот волнующий момент в моей жизни? Затем, он передал мне иконочку, а я отцу, что было дальше, не знаю, лишь спустя несколько часов все мы, близкие вокруг Марии, услышали душераздирающий крик ребёнка, так плачут только новорождённые, но кто знает, может, то был не крик ребёнка, а... К е н т а в р а !
– Я скажу только одно, – вздохнула Астрид, – в мои-то годы.., дорогой и любезный паж, я попала в скверную историю добра и зла. Принц закрыл весну на ключ, ведь все мы видели, что он понёсся на белом коне сломя голову, – помедлив, неожиданно спросила, – кстати, какая же роль отведена в той весьма странной истории рождения принца красной примуле, которая теперь красуется в петлице его костюма?
– Кстати, мэм, – тихо сказал паж, – вы заметили, какой на принце был костюм?
– Костюм как костюм.., – и после размышления, словно вспоминая одежду принца, продолжила, – чёрная рубаха, плотная под горло белая бабочка, чёрный пиджак, чёрные полуботинки, постойте, мне казалось, что в жизни я такая наблюдательная, принц Эдвард католический священник? Как я могла просчитаться!
– Мэм, – улыбнулся паж, – так будем теперь с вами откровенны до конца, – он шепнул ей ближе к уху, под шляпу, – вы же тоже не А с т р и д Л и н д г р е н ?
Однако на этот раз добрая фея уклонилась от прямого ответа, сильнее надвинув на лоб шляпку и расправив плотную вуаль на лице.
– Мария знала, что мальчик слеп? – вдруг спросила она, как ни в чём не бывало.
– В этом вся и загвоздка, – ответил паж принца, – Мария взяла на воспитание ребёнка потому, что он был слеп, впрочем, и в этой ситуации много неясного. Вы приехали слишком поздно, мэм. Мой отец уже в могиле, а Мария...– и паж перекрестился, – была похоронена самим приором.
– У них была любовь? – недвусмысленно спросила добрая фея.
– Если в высоком христианском смысле, то да, – ответил паж принца.
– Тогда ей там, – и Астрид подняла глаза к небу, – ей там зачтётся.
– В альбоме Эдит я увидела рисунок цветным карандашом, пенистые волны Белого моря и посреди с к а л и с т ы й о с т р о в, на его фоне высокая фигура монаха. Рисунок в тот миг, когда я его увидела, ничего для меня не значил, но сейчас сюжет неожиданно всплыл перед глазами, – и, помедлив, уже перейдя почти на шёпот, добавила, – теперь ясно, вот куда понёсся принц на белом коне, к острову монаха, чтобы перекрыть дорогу Эдит, но я так думаю, он опоздал. Она уже на острове, подсказывает моё сердце.
– Скачки на белом коне, – парировал паж, – любимое занятие принца, они заменяют ему удовольствие от общения с женщинами, ну, а что касается художницы, то мы все увидели её впервые и пока неясна роль красавицы в жизни принца.
Издали послышалось ржанье коня, взметнулась известковал пыль, когда же облако рассеялось, в контурах показался принц Эдвард Миляховский. В сердцах пришпорив разгорячённого коня, он воскликнул, – я закрыл весну на ключ!
Спрыгнув с коня, принц сорвал с петлицы костюма красную примулу и втоптал в землю, однако с того места вдруг послышался стон...
– Это хриплый голос принцессы Марии, – тихо сказал паж, – я его ни с кем не спутаю, милая фея.
Астрид, присев на корточки, попыталась собрать лепестки распятого растения, но лишь сверкнуло красное пятно, расползающееся на глазах у присутствующих.
– Эди, – голос шёл из-под земли, – как мог ты раздавить цветок страстей Христовых в канун Пасхи? Разве ты забыл, что по весне аурикулой убирают плащаницу, алтарь церквей, возвращаясь в пятницу после всенощной на Страстной неделе, я несла её частицы домой и хранила весь год, мой Эди, разве я таким хотела тебя видеть?
Однако принц был вне себя, он сбросил пиджак и сорвал бабочку, словно ему нечем было дышать, отвернул ворот чёрной сатиновой рубахи. Ни голос матери, её стоны из-под земли, ни утешения сказочницы Астрид Линдгрен, его пажей, которые сбежались к воротам, чтобы успокоить своего господина – ничто не могло привести Эдварда в прежнее душевное равновесие, он был вне себя.
К тому же подул резкий холодный ветер, закружилась позёмка с моросящим дождём, прикрыв хлопьями красное пятно священной аурикулы, раздавленной принцем. Позёмка, ворвавшись неожиданно в пространство Белого моря, не дала детям досмотреть восхитительную сказку «Пеппи – длинный чулок», в которой они участвовали все хором и вместе, так было задумано по режиссуре Эдвардом. Только появление художницы Эдит и запах её примулы на белом шёлковом платье отвлёк принца и создал некую сумятицу в предпасхальной обстановке, но, несмотря на это, дети уходили довольные, одаренные подарками, и о них принц позаботился заранее.
Но тогда та, которая выдавала себя за Астрид Линдгрен, возможно новоявленная дама под шляпкою с плотной вуалью была и сама Линдгрен, кто теперь рассудит спустя век, тем не мене и она вдруг тихо сказала самой себе:
– Пресвятая Дева Мария, да наш Эди влюблён, эта красотка, которая встретилась на «Дороге жизни», смутила покой, вот в чём причина его буйства и душевной неуравновешенности.
Богиня весны Фрейя, раздосадованная, что её молодую, только что вступившую в свои права во всей начинающей изумрудной зелени, закрыли на ключ, обволокла поместье принца Миляховского снежной порошей; падая на землю, хлопья снега превращались в белые примулы, которых принц топтал в ярости.
Тогда Астрид, коль уж она была замешена в столь нелепой истории подобрать девчонку с дороги, назначив ее в свои личные секретари, украдкой от принца собрала несколько таких белых примулок, протёрла их лепестки в ладонях, попросив пажа заварить из них чай, который мог бы подлечить нервы раздосадованного Эдварда Миляховского.
Так было положено начало примирения с богиней весны, первым любимым цветком – милой сердцу примулой.
Всё-таки что ни говори, а чай, настоенный на белых лепестках, растёртых в ладонях самой великой сказочницы, сделал своё дело. Принц ,испив на ходу белый горячий напиток, вошёл в покои, лег на спину и закрыл глаза, что он видел перед собой в тот миг, а может к о г о, осталось загадкой и для Линдгрен, принимавшей и впоследствии большое участие в судьбе юноши Эди. Кроме того, окружение принца, помня о благочестии принцессы Марии, осыпало её могилу засушенными цветками примулы, ещё сохранившимися с пятницы Страстной недели прошлой Пасхи, увещая её не беспокоиться за Эди и продолжать на небесах вкушать благодать божью, которую посулил ей п р и о р на исповеди.
Видя, что принц успокоился, уехала в своём экипаже в далёкую Швецию Астрид Линдгрен, обещая принцу, что если снова встретит Эдит, то отправит в покои благочестивой Марии, чтобы она объяснилась с принцем, почему скрылась с его глаз неожиданно..
Меж тем, Эдвард Миляховский, после постного ужина, под вечер прошел пешком к могиле своей матери, опустился на корточки и размял комок земли, тотчас услышав дорогой его душе голос. – Эди, сынок, я замерзаю, открой весну, убери меня свежими примулами.
Принц стиснул ладонями виски, сквозь глухой стон он выдавил: – мама, теперь я не только слепой, но и глухой, – и стал бить по земле правой рукою, на большом пальце сверкал перстень, который светился, возможно, обладая некой таинственной силой. С небес тотчас опустился проливной дождь, но он был тёплым и мягким, шёл до самой Пасхи, сквозь тучи неожиданно проглянула радуга и охватила пространство разноцветной подковой, освещая семицветной палитрой, та подкова словно упиралась в землю, опоясав могилу благочестивой католички Марии. От радужной подковы, говорят очевидцы, в тот вечер посыпались искры, и каждая, которая падала на землю, оборачивалась примулкой, свежей и пахучей, обновляющей душу.
Так Эдвард Миляховский, увещаный просьбами своей матери, открыл весну, убрав после чего могилу свежими цветами, пахучими аурикулами.. В ту ночь приехал в поместье сам приор, и он доверил Эдварду Миляховскому совершить первое в его жизни рукоположение в священники в маленькой каплице, построенной наречённой матерью Эди, в бытность её молодости, в честь воскрешения новорожденного младенца
- Скалистый
остров монаха. Загадав впервые в жизни желание для себя, Эдит не предполагала, что оно сбудется – такова власть красной примулы, дарованная ей свыше. Дождь шёл сплошной стеной, охватив Белое море, скалистый остров, поднявшийся со дна моря во время сильного шторма, предвестником которого явилось появление горной аурикулы. Ниша меж скал на острове позволила Эдит протиснуться в отверстие.. Тропа была узкой и, пройдя бочком, она увидела цветущий луг, зажатый скалами, словно выточенный внутри полукруг. Нависшие над лугом скалы сходились как бы в пирамиду, образуя нечто шатра над цветущей по весне поляной, и только при сильном порыве штормового ветра сюда долетали лишь брызги, обдавая солью весенний настой луговых цветов.
Эдит, сбросив мокрое платье, развесила его на зазубринах и вздохнула на полную грудь, ощутив запах ранних полевых цветов. Странно, но именно здесь на пустынном скалистом острове, охваченного с небес обложным дождём, приход весны был несколько странен, словно богиня весны Фрейя именно здесь в гордом уединении разговлялась после тяжёлого и долгого поста на Пасху настоем лугового разноцветья. Художница раскрыла планшет и высыпала на луговое поле всё его содержимое для просушки. За лугом вырвался туннель, который Эдит приметила не сразу. Занятая созерцанием полевых цветов, а было их видимо-невидимо, она не заметила, как в проёме туннеля, слегка пригнувшись, вырос монах в чёрном плаще с капюшоном, закрывавшим его лицо. Однако от рослой фигуры упала тень и накрыла девушку, она вздрогнула, испуганно потянувшись к платью, однако в тот же миг другая тяжёлая одежда была брошена в лицо с размаха.
– Как ты проникла на остров? – откинув капюшон с лица, сердито спросил монах ,и только тогда Эдит признала в нем Преосвященного Амвросия.
– Владыка, как я рада вас видеть! – воскликнула Эдит, пропуская через голову монашеское платье цвета изумруда, брошенное Амросием.
– Спасибо за одежду, хотя я в ней утонула, – улыбнулась она, – моё платье до нитки промокло, шёлк очень тяжелый и долго теперь будет сушиться.
– Ты мне зубы не заговаривай, – сердито сказал Амвросий.
– Почему такой крик? – тихо спросила Эдит, – я не думала, что увижу вас, – и она плотнее запахнула на себе монашеское платье.
– Я у ж е с т а р, – размеренно повторил он, – ещё ни одна женская нога не ступала на мой остров с тех пор, как шторм поднял его со дна Белого моря. Почему ты не на «Дороге жизни»? Мы же договаривались, что идёшь в поместье молодого принца за удачей, – владыка присел на верхнюю ступень, тяжело и прерывисто дыша.
Таким Эдит видела его впервые.
– Ты же не умеешь плавать? – усмехнулся он, – почему, Эдит? По какому праву ты идёшь за мной?
– Мне дала шанс великая сказочница Астрид Линдгрен, – ответила девушка, – в живой красной аурикуле, которую смахнула с платья, вами подаренного, я загадала впервые в жизни одно единственное желание для себя – попасть на скалистый остров монаха. Разве я бы смогла в такой шторм доплыть до середины моря? – Эдит нервно расхохоталась – меня смутило одно обстоятельство, – несколько успокоившись, продолжила она, – что принц и вы в чём-то похожи, разделяли лишь ступени возраста.
– Эдит, ты несносна и невыносима, – сказал Амвросий, ссутулившись, словно ушёл в предплечье весь с головой.
– У принца Миляховского копия вашей правой руки, походка точь-в-вточь ваша, интонация в голосе, даже в гневе вас не различить, сейчас я вижу в вашем смятении скорее п р и н ц а Э д в а р д а, только ваша стать выглядит грузнее, а он стройнее и чуть уже в плечах, да в глазах пелена, говорят, что он слепой, другие же свидетельствуют, что он лишь видит то, что хочет видеть, – Эдит помедлила, вглядываясь в непроницаемое лицо Его Преосвященства.
– Это не я, естественно, не мой сын, и не сын К е н т а в р а, – он подбирал слова поточнее, – если так уж случилось, что ты снова проникла в моё сенситивное пространство, – он, неожиданно засмеявшись, добавил более спокойно, – это моё о т р а ж е н и е. Таким мог я быть, если бы не встретил сгоревший деревянный скит и чудом оставшийся средь пепелища один намоленный камень. Я услышал тогда молитву, из камня доносился «О т ч е н а ш...».
– Тогда много неясного с вашим отражением, владыка, – сказала Эдит, – там же старая католичка Мария, которую отпевал сам приор, выходит, Эдвард Миляховский к а т о л и к, вы же...– Эдит не договорила, вдруг чего-то испугавшись, побледнела, – но если вы ,как сказано вами, с е н с и т и в, тогда многое становится ясным.
– А ты не так проста, как мне показалось поначалу, – он неожиданно рассмеялся, – кстати, монашеское платье тебе к лицу, я вдруг увидел твои глаза, их цвет, они наполовину зелёные, наполовину серые, похожие на всплеск штормовой волны вокруг моего острова, – владыка сделал шаг к Эдит и взял её за подбородок, – а разве на Эдварде был крест католика?
Эдит отвела его руку и поцеловала в запястье, солнце било в лицо и отсвечивалось на распятие нагрудного креста экзарха.
После паузы она добавила, – я не придала значения кресту, Эди был суров; и это выдавало в нём католика; остаётся загадкой, почему приор открыл мне «Дорогу жизни». Он же знал, что я прислуживала в свободной обители православным.
– Возможно, Мария в предсмертной исповеди открыла завесу тайны, что Эди принёс я, – тихо сказал Амвросий.
– Так это были вы? – Эдит припала спиной к наскальной поверхности, ощутив внезапно её холод, – вы были тот м о н а х с м и т р о й?
– Ты требуешь от меня невозможного, – он вздохнул, – скажу лишь одно, дух Марии будет всегда витать между нами.
– «Витать между нами?» – удивилась Эдит, – но что я ей сделала, лишь однажды я видела её мельком, она передавала для вас записку в букетике примулок, такая высокая, черноволосая, в кожаном коричневом плаще, она тут же скрылась, я не успела рассмотреть ближе, женщина была очень красива, эти брюнетки, они бывают такими волнующими...
– Такова её первооснова, – ответил Амвросий, – появляться и тут же исчезать. Я сделал ошибку, подарив тебе платье в красных примулах, – владыка покачал головой, – я не учёл одной детали, что примула любимый цветок Марии.
– А тогда почему примулки? – спросила Эдит, – спокойно можно было писать записки на лепестках фиалки, это более романтичнее.
– Дело в том, – он усмехнулся, – что примула ,горная, расцвела в ту весну, когда я нашел Эди под намоленным камнем, к тому же, я начал строительство своей обители, нового Корвея ,в котором ты позже заблудилась – это мой цветок после розы, но розу под блузой не всегда спрячешь, а вот букетик примулок ?
– Тут вы правы, – ответила Эдит, – все католички очень хитрые, тогда мне надо побыть на некоторое время с вами, чтобы воспрепятствовать появлению весной духа Марии, я бы стала ухаживать за истоками Чёрного Гладиолуса.
– Что? – удивлению владыки на этот раз не было предела, – от кого ты слышала про истоки Чёрного Гладиолуса? – он развернулся, закрыв проход туннеля широкой спиной, – в эту тайну ещё никто не проник, знает лишь мой охранник, да и то, просто догадывается, зачем я сюда плаваю, так кто же, дитя природы, тебе проговорился?
После некоторого молчания Эдит торжественно сказала: – Астрид Линдгрен.
Владыка рассмеялся, – ты неисправима, Эдит, в этом твоё счастье.
– Зачем вы стали монахом? – тихо спросила Эдит.
– Я же сказал тебе, Эдит, что в пути среди обгорелых камней встретил один единственный не похожий на других – н а м о л е н н ы й, на том месте я построил новый монастырь, свободную обитель для всех страждущих, которая, кстати, приютила и тебя, – ответил Амвросий, – не мог же я передать настоятельство в чужие руки, так я стал наместником и всей территории Белого моря, а потом в знак награды, я получил в подарок и м и т р у. И так хорошо, размеренно текла монашеская жизнь, пока в её тень не вошла одна несносная девчонка с планшетом и пастельными карандашами и стала повсюду рисовать мою т е н ь.
– Так несовершенно ваше монашество, выходит, владыка, раз вы испугались живой тени, – усмехнулась художница, – и какой-то д е в ч о н к и.
– Мне не от кого прятаться, хотя ты, порою, вынуждаешь меня это делать, – владыка достал из разреза одеяния чётки, затеребил их в правой руке.
– Вас охватило волнение, владыка? – удивилась Эдит, разве я вам причинила неудобства, – она бросила взгляд на солнце, уходящее за скалы по ту сторону Белого моря, на запад, – через полчаса, лишь подсохнет одежда, я покину вас навсегда.
Владыка тоже бросил взгляд на уходящее солнце и ещё сильнее стал перебирать чётки, он присел на выступ, внезапное беспокойство охватило его.
– Это чётки Марии, как память о нашем общем воспитаннике, младенце со знаком синего василька на тельце урода, которого судьба подбросила мне у того намоленного камня и я прижал его к сердцу в своем раздвоении, – подбирая более ясные формулы для восприятия Эдит. – В тот миг, когда я услышал звуки молитвы, льющиеся из камня, я р а з д в о и л с я, а сенситиву это особенно свойственно, таков мой жребий – видеть то, что не видят другие, слышать то, что не слышат другие, чувствовать боль ту, которую никто может не чувствует так остро, как я. Поэтому я и подобрал в замусоленных пеленах уродца, с его умирающим пульсом, – владыка с трудом перевёл дух, настолько он волновался, вспоминая прошедшее, – после того, как построил монастырь, я изменился, чтобы избавить себя от раздвоения. Ты говоришь, что Эди похож на меня, возможно, это мой жребий, если и он монах, если и он постиг тайну посвящения в монашество.
– Мне не всё понятно, владыка, – ответила Эдит, – но волнует не это,– она помедлила, потом спросила скороговоркой, – вы уехали со своим раздвоением к той католичке Марии?
– У меня в тот момент не было выбора, – он усмехнулся, – я должен был спасти уродца, а путь спасения лежал только к ней. Ведь она же христианка, – владыка неожиданно улыбнулся, – если бы ты видела её лицо, Эдит, в тот вечер, когда я принёс ей младенца во плоти, в первую минуту, возможно, она подумала, что уродец раздвоился от меня, я не ошибусь, что по происшествию уже более пятнадцати лет, вспоминая её лицо, могу сказать лишь одно, что она была с ч а с т л и в а!
– Слепой младенец-урод, с закостеневшей плотью, и вы называете это счастьем? – Эдит покачала головой.
– Ты слишком молода, чтоб судить тех, кто в порыве совершает благочестивый шаг, – владыка перешёл почти на шёпот, – тебя это не должно шокировать если даже п р и о р, а потом и я, подарив тебе белое шёлковое платье в цветущих примулах, послали в поместье принца Эдварда Миляховского, значит, в этом было твоё п р е д н а ч е р т а н и е, – владыка стукнул ребром ладони по каменному выступу, но ты всё испортила своим эгоизмом, мы послали тебя, совершенно не ведая друг о друге, по всей вероятности для того, чтобы ты вдохнула в нашего Эди п л о т ь, разогрела его человеческую суть, а ты сбежала, ощутив лишь ключик весны, ты покинула Эди в тот миг, когда он почувствовал твой запах.
– Но откуда вы знаете, владыка, – удивилась Эдит, – вас же там не было?
– Я же в сотый раз твержу, – резко бросил он, – что я сенситив!
– Возможно, я бы могла загадать другое желание и спасти вашего Эди, но меня шокировал его костюм, в детстве такие костюмы я видела на молодых католических священниках, когда они выходили в миры.
– Не может этого быть! – воскликнул он, – ты хочешь меня окончательно сразить своей бесцеремонностью, Эдит!
– Отчего, – она усмехнулась, – если вы с е н с и т и в, то вы должны были увидеть и это, – девушка провела рукою по одежде Амвросия, – виновата Астрид Линдгрен, сказочница из Швеции.
– Но ей же девяносто лет или больше, а вот Эдит, сколько тебе лет? – владыка был шокирован, – к тому же, говорят, её уже нет в живых.
– Возможно, ей девяносто, или девяносто пять, но её дух подпитывает нас в сказках во плоти человеческой, а Цветок жизни, взращённый вами, ваша Книга Монаха, тоже из человеческой плоти?
– Только не язви, Эдит, – ответил владыка, – у меня не так осталось много времени, чтобы позволить слушать пустословие, даже если оно льётся из прекрасных уст, ты пренебрегла нашим Эди, но это не значит, что я должен терпеть тебя в своём уединении, – жестом владыка дал понять, что он более не желает с ней говорить, вновь набросил на лицо капюшон монашеского платья и скрылся в туннеле, – только не вздумай ходить за мной, – бросил он на ходу, не оборачиваясь, – в чёрном коридоре я более ничем помочь не смогу, – следом послышался глухой вздох.
Когда пространство туннеля поглотило силуэт Преосвященного Амвросия, Эдит облегченно вздохнула и осмотрелась. Наскальную поверхность плотно охватила тень, в ракурсе которой разлился силуэт большого цветка, перед ним на коленях опустился владыка, лицо было закрыто капюшоном, но жесты Амвросия говорили о том, что он пребывал в молитве. Эдит вздрогнула от ощущения энергии, исходящей даже от тени силуэта высокого раскидистого Чёрного Цветка. Тогда она подошла ближе и осторожно провела ладонью по отражению, но тотчас отдернула ладонь, обжёгшись. Сознание Эдит поразила мысль: так это и есть Ч ё р н ы й Г л а д и о л у с, цветок «монашеской сути».
Эдит прошлась, подбирая полы несколько великоватой на ней одежды, присела на корточки, пожалев впервые в жизни, что не может рисовать с натуры силуэт Чёрного Цветка. Все бутоны были закрыты, только нижнее соцветие дышало полуроспуском.
Любуясь отражением, Эдит, подобрав под себя длинное монашеское платье, наблюдала за действиями Преосвященного Амвросия в отражении на тени. Не открывая лица, он, меж тем, приподнялся, взял со столика, стоящего рядом, ножик и наискось прошёлся по стеблю цветка в его изгибе, подставил кружку. Однако тень метнулась в сторону, прикрыв пространство силуэта цветка и его хозяина. Эдит встала, устремив взгляд к туннелю, интуиция не обманула её, в проеме показался владыка, неся в руке кружку из сверкающего белого фарфора, одну из таких она видела в его покоях, Эдит слегка отошла от туннеля, чтобы не мельтешить перед взорами Его Преосвященства. Он же, отбросив капюшон с лица, выдвинул наскальный столик, поставил кружку с искрившимся доверху чёрным соком. Владыка грузно опустился на камень рядом со столиком, показывая взглядом сесть и Эдит. Улыбнувшись, облегчённо вздохнув, примостилась рядом и Эдит.
– Я не умею играть своими чувствами, владыка, – тихо сказала девушка, – но то, что я сейчас узрела… остается сожалеть, что не просох мой рабочий материал в планшете.
– Отпей, – и он протянул кружку ближе к рукам Эдит, – это сок из стебля Чёрного Гладиолуса, однако скорее, по его специфическим вкусовым качествам нечто похожее на молодое чёрное вино, – владыка прикрыл глаза, – ты первая женщина, с которой я делюсь своим сокровищем, посвящая в тайну преображения, насладись энергией Чёрного Гладиолуса, – Преосвященный Амвросий улыбнулся Эдит, подбадривая её.
– Я не пью вина, – тихо сказала она, – даже если оно из стебля Чёрного Гладиолуса, вино меня возбуждает, а я и так чрезмерно импульсивная, Ваше Преосвященство, – и она отодвинула от себя кружку.
– Разве это плохо? – удивился Амвросий, – энергия сока Чёрного Гладиолуса не бьет в голову, как обычное вино, она подпитывает биологические клетки.
– А что же в том хорошего, вы же только м о н а х? – сказала Эдит тихо, – с монахами я не пью вина, даже Чёрного, и даже из ваших рук.
– А разве приор не сказал тебе однажды, когда ты приносила ему вечерами букетики синих васильков, что он не только настоятель почтенного монастыря, он ещё и м у ж ч и н а, как и я тоже, впрочем...
– Эдит усмехнулась, – он сказал немножко не так, но сути не меняет, – она приблизила кружку к губам, – тогда я выпью, хотя бы для ощущения вашего преображения, надеюсь, не сгорю от биотоков двух всего глотков.
Эдит, пригубив, вдруг закашлялась, отодвинув кружку. Владыка рассмеялся:– незнакомое вино надо пить медленнее, – он повернул кружку другой стороной, не спеша сделал глоточек и, вдыхая аромат, пропустил лёгкую струю вовнутрь.
– Оно жжёт, – тихо сказала Эдит, проведя ладонью по груди, – я же не хочу сгореть, – она в упор взглянула в глаза Преосвященного Амвросия, – я не сенситив, как вы понимаете, но я не могу отделаться от ощущения, что в зрачках ваших распахивается бутон Чёрного Гладиолуса, значит, в моё отсутствие вы прозрели?
– Быть может, Эдит, – сказал владыка, – я же выпил сейчас лекарство, в срезе этого цветка бродят жизненные соки, той капли, которую и ты пропустила, закашлявшись по неопытности от её жара, достаточно для иллюзий, что в моих глазах заточён прекрасный цветок неземной красоты.
– В вас самом заключена тайна, Ваше Преосвященство, что не хватит, я думаю, всей моей жизни, чтобы постичь и её, и ваше преображение. – Эдит вздохнула, ловя улыбку на жёстких губах владыки.
– Сбереги свой пыл для Эди, – усмехнулся Амвросий, я уже с т а р!
– Ну и для Эди хватит, – она рассмеялась, – к тому же я не уверена, что понимаю его так, как вас, – Эдит отпила ещё глоток и вдруг ощутила по настоящему вкус чёрного напитка, его преимущество было в том, что новоявленное вино из среза Чёрного Гладиолуса не пьянило, животворящие капли освежали пространство грудной клетки так ,что девушке захотелось взлететь на бренной суетой.
– Когда ты сделала шаг в мою сторону, Эдит, – очень тихо сказал Амвросий, между нами вырос тот пастух... А н т о н и й.
Эдит смутилась: – Пресвятая Дева Мария, всё же и вас донимает тот п а с т у х, – она попыталась поймать взгляд Преосвященного Амвросия, но он прикрыл веки, – это было так давно и совсем только маленькая правда, моя плоть взыграла!
– Но о н о е с т ь, и, не сетуй на неуравновешенность плоти, хотя, ты права, дался нам этот пастух! Дело не в нём, а дело в Эди. Он молод, вот что должно привлекать тебя, его свежесть, когда я раздвоился, и младенец, которого подкинули в грозу к обгорелому срубу скита, заплакал так, что сжалось сердце, я переступил через себя ради его спасения . Однако упустили главное, я имею в виду Марию, вдохнуть в Эди плоть.- владыка смутился,- меж тем
разве мог я написать Книгу Жизни, размышления монаха, будучи бесплотным? Нет, только бьющая через край живая плоть помогла мне переключать регистр мышления, освежать мысль, подпитывать горячий мозг биотоками Чёрного Гладиолуса, именно в тот миг корень его питался плотью моего грешного тела, – владыка опустил ладонь на плечо Эдит, – ты вдохнёшь в нашего мальчика с т р а с т ь. Я же хочу быть честным по отношению к тебе.
– Вы испытали когда-то любовь к женщине? – Эдит, испугавшись самой себя, сжалась.
– Эдит, ты злоупотребляешь моим доверием, – владыка, тем не менее, улыбнулся, его глаза вспыхнули, – ты же однажды меня об этом спрашивала, я же не оборотень какой-то, не у п ы р ь, как некоторые меня представляют, даже и не пришелец из космоса, я ч е л о в е к во плоти, как видишь!
– Я дорожу вашим доверием, – тихо ответила Эдит, – однажды во время воскресной службы, возможно, я вам это уже рассказывала, в ожидании Преосвященного Амвросия, когда он выйдет из церкви, в толпе мелькнула незнакомка, – Эдит окинула взглядом владыку, – примерно вашего роста с чёрными волосами, в коричневом кожаном плаще, женщина была очень красива, её карие глаза так и стреляли по толпе, словно она искала кого-то, я подошла к ней, попросив отойти в сторонку позировать, разрешить сделать несколько штриховых набросков, сказав, что у неё интересное лицо, но она резко отказалась. Её пальцы нервно перебирали бахрому платка, спадавшего на плечи, естественно, она волновалась, но в ту же секунду, когда вы должны были выйти из церкви, она исчезла, растворилась в толпе, – после паузы, Эдит спросила, – может, это была М а р и я?
Амвросий рассмеялся: – на свете столько Марий, кроме того, ты же знаешь одну из них, она же передавала записку в букетике горных примулок.
– Но я видела при свете луны, когда раскрывается дикая аурикула, тогда я не придала значения поступку Марии.
– Я не знаю, на каких ты женщин намекаешь, Эдит, лишь об одной из них я рассказываю в своей книге, её Лучезарным Светом проникнута вся моя суть, когда издам многострадальный труд, ты будешь, клянусь, первой читательницей.
– С моими рисунками? – переспросила художница.
– Ну, естественно, мы же договорились, – он усмехнулся, – рисунки будут только твои и ничьи более.
– Владыка, хотите, я нарисую лицо той женщины? – тихо сказала Эдит, – оно такое необычное, восточного типа, с глубоко посаженными карими глазами, их цвет напомнил мне неожиданно колос цветущего папируса, – и она потянулась к планшету.
– Нет! – поспешно воскликнул Амвросий, – угомонись, дитя природы, – он усмехнулся, – твоей интуиции, или наблюдательности не откажешь, возможно, это была Мария! – владыка пригубил из кружки ещё глоток, – ты слышала такую притчу, однажды Богородица, приняв облик очень дряхлой старушки, спустилась на землю и стала просить милостыню, присев на приступок, вся морщинистая, в заштопанной юбке, седая, с косынкой на плечах .
Народ спешил, не обращая на нищенку внимания, рядом с ней лежало два букетика полевых цветов и всякий раз, когда кто-то в суете пробегал мимо, она протягивала ещё и тот букетик, словно прося хотя бы купить его. Уже близился вечер, но никто не одарил нищенку, выходит, очерствел народ, занятый собой и не видит никого вокруг. В ту минуту возле старушки остановилась женщина, по одежде можно было понять, что она не столь богата, однако прохожая взяла в руки букетик полевых цветов, и, спросив цену, сказала: – я покупаю два, – и насыпала больше мелочи, не взяв сдачи. Если бы женщина обернулась, то увидела следом за ней п р е о б р а ж е н и е, белый шлейф облака поднялся вверх, в нём возвышалась Богородица, осеняя уходящую крестным знамением.
– Может быть, этой женщиной была Астрид Линдгрен? – засмеялась Эдит, – в свои девяносто пять лет она ещё бодро разъезжала в экипаже, отправившись в путешествие из далекой Швеции к принцу Эдварду Миляховскому?
– Это просто нравоучительный сюжет, – сказал владыка, – наши души черствеют, мы видим вокруг себя любящих людей, но не спешим их одаривать, так случилось и со мной, когда застучало моё сердце неожиданно сильнее, чем в обычные дни, я понял, что где-то приближается о н а.., лишь сделал вид, что не заметил.
– Вы поняли, что это о н а и не побежали за ней?– удивилась Эдит.
– Зачем же бежать? – Амвросий усмехнулся, – я не видел её лица, хотя долго стоял на приступке церкви, давая благословение тем, кто в нём нуждался, кто просил его, но чувствовал присутствие, этот з а п а х, мне даже стало не по себе, – Амвросий притих, словно вспоминая момент встречи, – переодевшись после службы, я взял книгу и вышел на тропу, ведущую в горы, на любимое место, откуда видно, как бьется о скалы морской прибой.
– Однако у вас авантюрная душа, – засмеялась художница, – раз вы любите писать, когда вас обдают брызги штормового моря, ведь Белое море редко бывает теплым.
– Смотря для кого, – сказал Амвросий, – чтобы охладить пыл, может нужно именно присутствие у Белого моря, – владыка поднялся с камня, перебрал просыхающие на ветру рисунки Эдит, остановился на одном, поворачивая очертания к солнцу, продолжил рассказ
– Я шёл по тропе в гору, сумерки, перебитые красотами заката над морем, окутали скалистое побережье, в какой-то миг от нахлынувших чувств я расслабился, замедлив шаг в гору. Мне показалось, что из-за выступа кто-то выглянул, по крайней мере, упала тень к моим ногам, но я не придал тому значения. С вершины горы сорвался штормовой ветер и обдал лицо ледяным порывом; хлебнув солёного воздуха, я попытался присесть, чтобы перевести дух и продолжить дальше восхождение, в тот миг кто-то толкнул в спину с такой яростью, лишь я почувствовал под лопатками что-то твёрдое, возможно, это был перстень. Упав на грудь, ударился лицом о каменистую поверхность и потерял сознание; не знаю, сколько так продолжалось времени, но в чувство привёл запах женщины, то ли запах цветка, я открыл глаза, свитка папируса в руках не было, коснулся лица ладонью, она оказалась красной. Отвернув полу кафтана, я с трудом протёр лицо и вдруг увидел на одежде вместо крови растоптанный цветок – это были лепестки красной примулы, редкого в горах цветка а у р и к у л ы, быть может, я упал лицом на этот цветок и он обжог меня своей энергией, в глазах стоял туман, я с трудом различал силуэт Млечного пути, простёртого над горами, а ведь я уже почти завершил своё восхождение. Исчезла книга, на счастье она попала в расщелину, история поисков тебе известна, Эдит. Ты молодец, что сумела напасть на её след и спасла меня от дальнейшего прозябания, а вот с Чёрным Гладиолусом было столько ухищрений, пока я с помощью Святого Писания не усмирил гордыню плоти, то есть саму суть этого вещего цветка, подарившего впоследствии п р е о б р а ж е н и е. Потом я снова потерял сознание, но снизошёл на горы промысел божий и я очнулся, звенел источник меж камнями, парил надо мною Орёл Рафаэль, которому я обязан воскрешением.
Эдит приподнялась, стряхнула травинки с монашеского платья, коснувшись ладонью полузакрытых глаз Преосвященного Амвросия.
– Возможно, при восхождении вы потеряли сознание от того, что переключили рычаг мышления, со мной это тоже бывает и здесь возраст не играет особой роли, я так думаю, – Эдит, несколько успокоившись, присела рядом, – мне кажется, что ещё миг и штормовая волна накроет нас, такой гул за скалами, словно мы находимся в преисподне.
– Ну, в преисподне я ещё не был, – Амвросий усмехнулся, – и это не самая страшная смерть быть погребённым в море, гораздо хуже умереть непрощёным.
– Вы имеете в виду Марию?– удивилась Эдит, – вы же священник, как вы можете ей не простить?
– Да, священник, но я ещё и человек! – сказал Амвросий резко.
– Возможно, Мария хотела выкрасть Чёрный Гладиолус, когда толкнула в спину перстнем.
– Было ещё одно тоже не менее странное, – продолжил владыка, – в ту ночь разыгралась буря и волны, охватив скалы, своим шквалом смыли истоки Чёрного Гладиолуса, – помедлив, он добавил, – так, по крайней мере, вырисовывается картина моего падения.
– Значит, ударившись о камень, вы поранили не только лицо, залив его кровью, но и глаза, тем самым вы задели нерв Чёрного Цветка, я так полагаю, – продолжила мысль Эдит.
– В тот вечер моя суть была ослеплена кровавым пятном аурикулы, из глаз при ударе посыпались искры, а Чёрный Гладиолус не терпит соседства с другими цветами, даже роза царица цветов, которая по преданию замещала богиню Флору в её отсутствие на земле, именно в тот период, когда Флора отправилась на планету Венеру усмирять вспыхнувшее восстание среди цветов, – владыка улыбнулся, – так вот, даже роза в тайне от всех мечтала, чтобы первая чаша бутона Гладиолуса, распахнувшись, а она обычно открывается с низу стебля, повернулась лицом к ней, а не радовала другой цветок. Вот почему я и потерял Чёрный Гладиолус, пропала моя услада жизни.
– Однако сейчас вы познали снова п р е о б р а ж е- н и е, – Эдит кивнула на туннель, – я видела, как упала тень на скалу напротив, в пространстве тени был отчётливо обозрим силуэт дивного высокого растения. Я решила, что это и есть Чёрный Гладиолус, раз вы читали Евангелие, это можно было определить по губам.
– Я не уверен в родственных связях того, кого я потерял при падении и того, кого я обрёл, лишь о б р е т е н и е всегда возвышает душу и теплит надежды на будущее, – Преосвященный Амвросий прищурил глаза от прямого луча, прорвавшегося сквозь тучи над Белым морем и осветившим сверху остров Монаха.
Владыка поднялся с места, допил последние капли молодого вина в фарфоровой кружке, прошёлся по поляне меж первых весенних цветов и продолжил рассказ.
Наверное, мои молитвы были услышаны, когда почти слепым избороздил на моторке в поисках потерянной услады жизни, моя плоть была мертва, правая рука больше не писала, регистр мышления попал на стопор. Лишь судьба, или п р е д н а ч е р т а н и е, назови это как хочешь, уготовила мне сразу два сюрприза.
В ту ночь, как ты знаешь, на поверхность Белого моря поднялся скалистый остров в виде усечённой пирамиды, а это волнующее место в цветах и зелени весенней уже следствие моего труда на острове. Я выбил камень, расчистил, привёз земли, натаскал в мешках, и через весну здесь всё обновилось, хоть бери да и строй на этом месте наскальный монастырь, жаль, что годы уже не те. Да, возможно, я очень постарел, потому что при виде неказистого подснежника, бог весть как попавшего сюда, наверное, через ту землю, которую я возил, итак, при виде подснежника я прослезился. Слеза упала рядом и вдруг раздался звон, я сжался, звон повторился, тогда я обернулся и замер, на глазах, из той случайно обронённой от умиления слёзы, поднимался молодой гладиолус, я ещё не знал его колера, но сразу понял, что это и есть моё п р е о б р а ж е н и е. Дрожащими руками я вырыл цветок вместе с клубнем, омытый слезою, я не хотел, чтобы он развился вместе с простыми цветами в луговой траве, которая со временем могла бы его забить.
На острове был глубокий проём, войдя в него вместе с растением, я увидел туннель, в самом конце его доносился мерный стук капель, так я понял, что на острове есть ещё источник, или гейзер, который временами выбрасывал по стенам туннеля струи горячей воды. Вот что подсказало место для особого цветка, то есть моего нового преображения. Далее потянулись ночи и дни, которые перепутались у меня, и я часто походил на обычного младенца, желающего испить мамино сладкое молочко и ничего более, работа оказалась ещё гораздо изнурительнее, чем та, что на поляне, пласты грунта надо было пронести через весь туннель, согнувшись в три короба, пробить в туннеле свет, чтобы он освещал ровно растение, которое я высадил под самым куполом каменного лабиринта.
Усердными и горячими молитвами, Покровом Пресвятой Богородицы, которая меня всегда одаривала в трудную и решающую минуту, молодой Гладиолус прижился, набрал в стебле соки, выбросил бутоны, я с нетерпением ждал, когда приоткроется его первый нижний. И, вот однажды он растрескался прямо на моих глазах, отогнулся первый лепесток, он был бархатисто иссиня-чёрным, а вскоре и вся чаша распахнулась. «О, Пресвятая Богородица, спасибо!» – сказал я в порыве, радости не было предела, тогда я захотел расширить туннель, дать больше пространства вокруг нового цветка, больше света, чтобы растение пошло в рост. Так я вычистил наскальную поверхность внутри туннеля, когда же дошёл до последнего камня, то неожиданно он легко поддался и меня залил солнечный свет. Выйдя из отверстия, я попал сразу на островок, на котором пестрела масса жёлтых цветов, бархатцев и майориков, я помнил их из своего детства. Присел на живой коврик, словно он расстилался только для меня одного.
Когда же молодой Гладиолус набрал силу и чаши его цветов распахнулись все, то из верхней вырвалось пламя, вспыхнувший огонь желаний возбудил мою плоть, обдал глаза горячим порывом, тогда я стал общаться со своим новым цветком в монашеской одежде с капюшоном, но даже и сквозь плотную ткань проникал жар его иссиня-чёрных чаш. После этого зрение стало понемногу ко мне возвращаться, а что может быть желаннее, когда ты видишь и слышишь, как молодой.
Владыка прервал рассказ, внимательно вглядевшись в лицо Эдит, слушавшая его, как заворожённая. Испытывая в тот миг какие-то особые чувства, она припала к полам широкого одеяния, обхватив через материю кафтана ноги Амвросия, вдыхая запах молодой плоти. Была ли то вечность, или миг, кто знает, ведь на скалистом острове, вознесённом посреди Белого моря, не было фактически свидетелей, кроме Фрейи, богини Весны в скользящей тени от широкого и длинного одеяния красивого владыки. Эдит же, не встретив никаких резких движений со стороны Амвросия, а тот словно врос в камень, заточённый в скалу, в глухом волнении прочертила по чёрному покрывалу платья линию до самого подбородка Его Преосвященства, слегка коснувшись уголка застывших, обветренных губ.
На острове после шторма воцарилась тишина, ливень отступил и пенистая волна, накрывавшая его до самой верхней точки пирамидальной формы скал, подкатившись, плавно отхлынула назад, словно и она не желала мешать общению двух странных и непохожих друг на друга тел, одно из которых была замкнуто, а другое -- слишком открыто.
– Но почему Мария толкнула вас в спину? – неожиданно для самой себя спросила Эдит. Вопрос повис в тишине. Усмехнувшись, он отстранил Эдит, сказав назидательно:
– В любви и ненависти нами владеют одни и те же чувства, уж если мы любим, так любим, а если ненавидим, так ненавидим, – и, помедлив, уже тише добавил, – кажется, нам пора покидать остров Монаха, я довезу тебя на моторке до берега, откуда ты снова выйдешь на «Дорогу жизни».
Сорвав своё платье с выступа, Эдит распрямила его и, сбросив на глазах владыки монашеское платье, переоделась через плечо в своё белое, усыпанное тёмно-пурпурными примулами, потом сложила одежду с чужого плеча и опустила у входа в туннель.
– Постарайся не возвращаться, – тихо сказал Амвросий, словно не видя обнажённой Эдит во время её медленного переодевания.
– А как же Луис?– спросила она, вспомнив своего верного избранника, – помните, вы сказали, что обвенчаете меня с Луисом?
– Луис ушёл из обители и до сих пор не вернулся, – усмехнулся владыка, – кто знает, под чьим он сейчас покровительством, да и он бессребреник, что он даст, но...– я не буду настаивать, – он усмехнулся, – Луис так Луис!
Эдит рассмеялась, сорвала букетик полевых цветов и протянула Амвросию, тот молча принял, опустил в них своё лицо, вдыхая аромат весны.
– Впрочем, – продолжил он, – решать тебе, дитя природы, Эди, Луис, или тот пастух.., однако «Дорога жизни» на первом плане, сейчас главное, разбудить в Эди горячую плоть, от его п р е о б р а ж е н и я, возможно, преобразишься и ты сама, после этого будешь решать, с к е м? Я не буду тебя неволить.
– Но Эди, – она помедлила, – я так думаю, что он закрыт для восприятия души, на нём было облачение католического священника?.
Владыка смутился: – я это ещё не знаю, – он глубоко вздохнул, – возможно, я тоже выйду на «Дорогу жизни», чтобы самому увидеть Эди и всё понять до конца, хотя.., я дал слово Марии никогда с ним не встречаться, таково, по крайней мере, было её желание.
– Но Марии уже давно нет?– сказала Эдит.
– Неважно, есть её д у х, я подумаю, как мне поступить в таком случае, – вздохнул, отводя взор. – Владыка растрепал волосы Эдит, – а теперь пора, солнце уже заходит, ночью здесь женщине оставаться опасно. Ночь принадлежит лишь молодому Чёрному Гладиолусу, пламень из его чаш может сжечь чужака дотла, ни молитвы, ни увещевания не помогут.
– Но почему? – удивилась Эдит, – мы так близко друг от друга, и такой миг повторится ли? Я вся сгораю, не дожидаясь ночи, где царствует пламень Чёрного Гладиолуса, если ваш Эди бесплотен, и вы толкаете к нему всячески, но вы же.., вы же сами тоже человек, после вашего преображения, в ваших глазах снова я ощутила шелест того прелестного цветка, источающего запах плоти. Почему вы упорно отвергаете меня? Разве ваши монашки...
Владыка не дал ей договорить, он взял ладони Эдит в свои руки: – ты добилась своего, распахнув мою душу и войдя в неё так, что мне некуда уже деваться. – Амвросий увлёк Эдит в пространство туннеля, где витал лишь едва ощутимый, тончайший аромат дивного цветка планеты, приведшего в удивление даже богиню Фрею, Чёрного Гладиолуса.
Отверстие было так узко, что им пришлось идти вдвоем не иначе, как обнявшись, сквозной проём выводил к водам Белого моря, где покачивалась на волнах лодка. Владыка завёл мотор, и он, взревев, дал старт, и посудина понеслась, пересекая высокие и крутые волны к берегу. Вскоре они прибились к причалу, который после шторма был весь усыпан медузами и крупной галькой в барханах песка.
– Чтоб ты знала, Эдит, – сказал владыка, – если среди здешних баркасов нет у берега моторки цвета аурикулы, значит, я на острове Монаха, – он первым выпрыгнул на мокрый песок, чуть не поскользнувшись на маленькой медузе, отшвырнув от себя, следом спрыгнула она, но что-то обеспокоило её.
– Возвращаться, в крайнем случае, – настойчиво повторил он, – когда выйдешь на «Дорогу жизни», на повороте к поместью – могила Марии. Прибери её цветами, если придешь новой весной, то жёлтой примулой, если в начале лета, то розовым пионом, если осенью, спрячь луковицу гладиолуса под слой земли, – помедлив, он добавил, – скорей всего, по моим прогнозам, ты придёшь осенью.
- Тогда… – он вынул из разреза кафтана большой клубень, снял с него первый слой шелухи и положил в карман Эдит, – когда растение выбросит стебель, рано утром полураскроется нижний бутон, срез его поставь Эди на письменный стол, за которым он пишет сценарии по сказкам Астрид Линдгрен, – и владыка улыбнулся, по всей вероятности своим мыслям, – когда все бутоны приоткроются, излучая энергию, а в чашах цветка вспыхнет огонь желаний, в тот миг и ты, и он, возможно сразу вместе, я хотел бы в это поверить, почувствуете запах п р е о б р а ж е н и я, – после этих слов Преосвященный Амвросий обнял Эдит так, как бы она была его родной сестрой, подтолкнув вперёд. И долго так смотрел ей вслед, пока силуэт не растворился в лунном свете. Потом он приколол моторку у берега, набросил на лицо капюшон и, обдаваемый ветром, пошёл по тропе, ведущей через горы в монастырскую обитель. Внезапно его остановил хриплый голос Эдит.
– Владыка, – крикнула она испуганно, – я забыла на острове Монаха планшет! – сумерки разделяли их метров на сто, не более, однако силуэт Амвросия уже почти растворился в пространстве.
– Ну что мне с тобой делать, Эдит! – Амвросий обернулся, спросив в сердцах, – он так дорог?!- не дождавшись ответа, повернул назад к причалу, сорвал цепь, сдвинув лодку.
– Да, – крикнула Эдит, – это подарок моей матери перед странной кончиной, – она повернулась и выбежала к нему навстречу.
– Ты же отдаёшь себе отчёт в том, что я снова должен завести моторку и выйти в море, а погода стала меняться, – он вслушался в раскаты волн, – возвращаться всегда труднее, ночью Белое море особенно коварное.
– Нет, боже упаси, – ответила Эдит, – я не хочу вашего возвращения на остров, я лишь предупредила вас, что забыт планшет с рисунками, возможно, новая часть из них займёт вашу книгу. – Эдит приблизилась к Амвросию, забросив правую руку на его плечо, – я слишком дорожу вами, чтобы заставить вас вернуться.
Владыка же в раздражении сбросил её руку с плеча, тяжело вздохнув: – тогда зачем окликнула меня, я бы и сам догадался, увидев днём твой планшет, что его надо взять с собой.
Он отстранил её с пути, разбросал цепь на приколе, впрыгнув в лодку, завёл мотор. Эдит пошла следом за ним, однако он с такой силой столкнул моторку, что Эдит чуть было не сорвалась в воду.
– Жди меня здесь! – крикнул владыка на ходу, – отойди подальше от берега, шторм приближается, волна может сбить тебя, неугомонную!
Моторка, подпрыгивая на пенистой волне, вскоре прибилась к острову, в отражении лунного света был виден силуэт высокого монаха, сошедшего с моторки в проём острова. Эдит, обдаваемая волной и проклиная всё на свете, что окликнула владыку, неотрывно смотрела в одну точку, мысленно молясь, призывая на помощь Богородицу. Спустя некоторое время раздался сильный гул, потрясший побережье Белого моря, штормовая волна с такой силой отшвырнула Эдит, к самой подошве горы, что она упала спиной, зацепившись за шипы на камнях ,и закричала от боли, в тот же миг на её глазах рухнул остров Монаха, накрытый штормовой волной.
Эдит попыталась подняться, но резкая боль в спине не позволила ей это сделать, даже выдвинуться на полшага, она лишь мысленно успокаивала себя, что перед глазами мираж и вот-вот раздастся спасительный сигнал моторки и владыка спрыгнет на берег, чтобы помочь ей подняться. Она вспоминала все молитвы, которые знала с детства, сожалея, что променяла свой первоцвет на заклинание Наума, которое со временем потеряло свою силу и значимость. Солёная волна, докатившись и до неё, обдала с ног до головы и, захлебнувшись, Эдит потеряла сознание.
На море всё бывает неожиданно и непредсказуемо, как молниеносно разыгралась стихия, так постепенно и незаметно улеглась, хотя всё ещё бурлило и пенилось. Ближе к рассвету, когда Эдит пришла в себя, она увидела, что полулежит среди медуз, фиолетовая слизь одной из них прилегла к её руке, она вздрогнула от какого-то отвращения и отбросила в сторону. Хотела подняться, но вновь вскрикнула от боли. Море казалось достаточно спокойным, пронзительно белым, однако острова Монаха посреди не было, лишь покачивалась на зыбкой волне моторка. Небо же вдоль горизонта, словно касаясь волн, прорезалась радуга, охватывая пространство цветной подковой. Эдит, сделав над собой огромное усилие, всё-таки поднялась, ещё не веря своим глазам, что исчез скалистый остров. Раздался звон колокола, он словно спускался с гор, это звонили из монастыря, Эдит очень чутко уловила звон, который ни с каким другим не могла спутать.
– Боже мой, прости мою душу грешную, что я наделала, – шептала Эдит, – остров ушёл под воду, его больше нет, его нет... – она смахнула слёзы.
Плакала девушка во второй раз в жизни, первый, когда умерла её мать, кормилица, пустив дочь по миру зарабатывать себе на жизнь цветным карандашом и кисточкой. Эдит отжала мокрое платье и вдруг в кармане ощутила что-то твёрдое, поначалу не могла понять, откуда у неё цветочная луковица, – ах, да, – сказала она, вспомнив про клубень молодого Гладиолуса, который подарил ей владыка на счастье.
– Да, есть ещё принц Эдвард Миляховский, тот младенец, найдёныш у намоленного камня, есть ещё ш а н с снова выйти на «Дорогу жизни», есть е г о Э д и! Нет сомнения в том, что владыке бы это понравилось, – так размышляла она, лихорадочно наблюдая за моторкой, которая покачивалась на волнах, но слишком далеко от берега, после шторма побережье было абсолютно пустынным, и некого было попросить прибить лодку к берегу.
Эдит провела на побережье ещё пару дней в ожидании чуда. Вскоре лодку привёл к берегу парусник, Эдит неслышно подошла, обшарила всю посудину, но кроме её цвета – пурпурного, оттенков аурикулы, ничего не напоминало, что это моторка Его Преосвященства. И вдруг Эдит ухватила взглядом сверкнувший предмет в уголке, под сиденьем у носа моторки переливались бисером чётки, они были иссиня-чёрными, под тон бутонов молодого Гладиолуса, Эдит узнав их, радостно вздохнула.
– Чётки! – на всю округу воскликнула Эдит, бросившись в моторку, протёрла их от песка и грязи, обсыпав каждую бусинку поцелуем, – бог мой, его ч ё т- к и! – на море упала тень, она разливалась всё сильнее, ощутимее, Эдит, сдерживая волнение, оглянулась, лишь у моря сидел парусник, счищая слизь медузы с ботинка.
– Ну, что, красавица? – спросил он, – всё играешь с тенью? – и, засмеявшись, добавил, – учти, это опасно!
Эдит пожала плечами, взяла чётки, спрятав их глубоко в карман, где притаилась луковица, и быстро пошла в гору. С глаз долой от всех, ей хотелось остаться наедине с собой. Однако к вечеру ноги сами вывели её на тропу, ведущую к «Дороге жизни». Так Эдит дважды пыталась войти в одну и ту же реку судьбы, волной которой то и дело отбрасывалась назад. На счастье, стенания художницы услышала богиня Фрейя и ниспослала божий промысел.
Посреди ночи на небосводе рассыпалась звезда, озарив скитания Эдит. Залюбовавшись видением, мысленно рисуя звёздный всплеск, она сбилась с пути, где Эдит встретился Астерий, равный ей по духу, лишь он бежал от тени, она же – от самой себя.
- Исчезновение острова Монаха во время шторма – это была первая версия расставания с Преосвященным Амвросием, его Чёрным Гладиолусом, который был заточён в туннеле скалистого острова и вновь погребён на дно моря. Вынужден ли опуститься вместе с ним был и большой экзарх свободного монастыря, построенном им из намоленного камня по образу и подобию нового Корвея, или успел покинуть остров в момент погружения на дно моря, однако не сумевший попасть в моторку, как волна сбила его? Захватил ли он планшет Эдит с собой, или тот остался на острове Монаха и вместе с Чёрным Гладиолусом погребен в морской стихии?..
Так в поисках п р е о б р а ж е н и я, повествование приблизилось к закату. По одной из
версий ,наиболее разыгранной в свободной обители, владыка успел оттолкнуться от выступа уходящего под воды заклятого острова и широким движением рук захватить морскую волну ,он увидел над собой белое покрывало, с помощью которого был подброшен к отвесным скалам и, возможно, чужого берега. Увидев себя на незнакомой и необжитой местности, он воздал руки. К небу, прося защиты у провидения.
– Ты получишь всё, что я только смогу тебе дать, лишь не спеши сорвать в тени цветок желаний, не суетись над ним,- послышался женский голос, который владыка не смог спутать ни с каким другим,- и ты постигнешь, как только энергия накопится в его молодых чашах, своё п р е о б р а ж е н и е. Владыка присел на камень, поросший мхом, протирая глаза и ощущая в них резь в ожидании утра, понимая, кем он был спасён . Однако в его спасении была замешана другая женщина ,не менее значимая, но большая охотница до Чёрного Гладиолуса, в котором, по слухам ,была сокрыта плоть экзарха.
- Отравленный розарий. Вандела посылала высокопоставленным монахам розы с отравленной пыльцой, мстя им за то, что они пренебрегали совершенством её естества, отдавая пылкость возвышенных чувств лишь Е Й, М А Р И И…
– Ты много на себя берёшь, Вандела! – сердито сказала мадам Роз богиня Флора, – я дала тебе между склонами вдоль Белого моря долину мягкой и чёрной земли, чтобы ты устраивала на ней праздник Роз, а ты же стала отравлять ядом каждую розу.
Вандела же, прикрыв лицо рыжими космами, молчала.
– Те розы, которые срезают здесь для большого экзарха, ты тоже отравляешь их дыхание? – допытывалась Флора.
Однако Вандела сохраняла упорное молчание.
– Те пышные розы, неземной красоты, когда владыка Амвросий проносит с помпой по красному ковру, подняв букет высоко в небо, через толпы калек, нищих, страждущих, блаженных, жаждущих принять от него благословение, разве ты и их отравляешь? – Флора была вне себя от гнева.
Богиня дёрнула мадам Роз за космы, но рыжая лишь отмахнулась.
– Мадам Роз, умерь свой пыл и покажи мне хотя бы одну чистую розу, чтобы и я могла преподнести большому экзарху, ни спросив у него благословения для весенних цветов, – Флора вздохнула, – разве ты не видишь, что суховеи иссушили весеннюю почву?
– В саду есть та роза, – вдруг заговорила вполголоса Вандела, – за розарием протянулся айвовый сад, посреди него – куст розы палевых окрасок, – пошли со мной...
И Вандела повела Флору вдоль плантации роз, в пути она набросила на лицо марлевую повязку, поскольку аромат роз был так приторен, что становилось невмоготу дышать. Да и у самой Флоры закружилась голова, она попыталась присесть, но Вандела потянула её за локоть, давая тем самым понять, что садиться ни в коем случае нельзя. Вскоре они прошли плантацию, благоухающую розами, белых и малиновых тонов, высоких, в полубутонах, словно мраморных, каждая из них потрясала красотой и грацией, словно изваяние.
Зашелестел айвовый сад, от тени повеяло прохладой, Флора глубоко вздохнула, в тот момент их разговор подслушивала ещё и третья дама, безумно влюблённая в большого экзарха, когда тот был ещё мальчиком и жил неподалёку от гор, у самого побережья Белого моря. Фиолетовая скользила по глади моря, в тени, падающей от гор, и потому ни Флора, ни Вандела не замечали её поступи.
Флора присела, вдыхая, словно прочищая лёгкие от яда пыльцы; Вандела же, чтобы угодить богине, сорвала ветку цветущей айвы и стала отгонять от лица Флоры разных мошек.
– Бог дал этому монаху красоту и живую плоть, однако он пошёл против естества, – выплеснула свой гнев Вандела.
– Таков его у д е л, – помедлив, – или он себя кастрировал? – удивлённо переспросила Флора, – это же большой грех.
– Нет, хуже, – сказала Вандела, – одев на себя чёрное платье, монах заточил свою плоть в странный цветок – Ч ё р н ы й Г л а д и о л у с. Борясь со своей плотью, он каждое утро восходил на пик горы и однажды, споткнувшись, ранил тот странный цветок. Он повернул лицо, заметь, Флора, своё прекрасное лицо, глядя на которое можно лишь молиться, итак, он обратил свой взор лишь к т о й, П р е ч и с т о й, которую все называют М а р и я. Амвросий и Анфим, сотни на них похожие, коим я придумала своё особое испытание; Анфима я заточила в чашу Чёрного Тюльпана со своим раскаянием, Амвросию же посылаю на праздник букеты отравленных роз, к тому же, я внушила ему кару высоких людей, расшатав диски и однажды, поверь мне, они рассыплются, – Вандела расхохоталась.
Флора, придя в себя в тени айвового сада, ответила: – но М а р и я– мать С п а с и т е л я, эти чувства божественные, зачем донимать вожделением монахов, когда в округе столько мужчин, жаждущих ласки мадам Роз.
Флора поднялась с земли и оглянулась, на её лице неожиданно просияла неподдельная улыбка. Напротив айвового дерева, низкорослого и уже отцветавшего, вытянулись два куста розы в полубутонах. Один из них был тёмно-вишнёвый, охваченный сверху белой, словно кружевной бахромой, другой – бледно-жёлтый, но прожилки были в малиновых тонах.
– Я люблю палевые розы, садовые, – улыбнулась Флора, вдыхая свежий аромат цветов.
Вандела же подвела высокую гостью к розовому кусту и слегка коснулась полубутона.
– Я очистила его от крови, – она сорвала три верхних лепестка в малиновой окраске и подогнула самую роскошную ветвь, усыпанную полубутонами, – ты права, Флора, – сказала мадам Роз, – жёлтый цвет восхитителен и только на Низкой земле вблизи Белого моря можно встретить такой цвет подобно солнцу, я дала ему своё имя, однажды открыв его в айвовом саду, – и она протянула богине Флоре розу, хитро улыбнувшись – сорт В а н д е л а.
– Вот это аромат настоящий, спокойный, – сказала Флора, касаясь бутона губами, – в отличие от приторных запахов, дурманящих сознание на плантации роз.
Флора, наслаждаясь запахом жёлто-розового, меж тем, подошла ко второму кусту, тёмно-вишнёвому, притянула бутон и тоже понюхала.
– Да, это тоже садовая, без подделки, она так и светится, восхитительная в прожилках, а на плантации розы как восковые, словно их облюбовала смерть, поселившись в чаше бутона.
Флора обошла роскошный куст, держа в правой руке подаренную ветку жёлтой розы: – для кого же ты растишь, для кого лелеешь такую красоту? – спросила она, удивлённая, – если, разумеется, это не тайна?
Мадам Роз, впервые за всю недолгую встречу с богиней весны и цветов, вдруг смутилась и отвернулась. Тогда Флора встряхнула куст от росы, омыв последней свои руки и лицо.
– Для кого же эта роза? – настойчиво спросила Флора, – в моём пространстве цветов я всё должна знать, – она внимательно вглядывалась в лицо Ванделы, – когда я получила на тебя анонимку, что ты отравляешь розы, моему негодованию не было предела. Бросив всё, весной ты же знаешь, сколько забот, прибыла сюда, чтобы удостовериться, – она покачала головой, – теперь я понимаю, почему он упал на камни лицом, поднимаясь в горы подышать морским воздухом.
– Ничего подобного, – Вандела усмехнулась – в этом эпизоде с экзархом я не участвовала, замешана другая женщина, – и отвела взгляд. – А эта роза только для меня, – тихо сказала хозяйка, для меня одной в минуты одиночества.
Богиня взмахнула жёлтой розой с такой силой, что зашумела вокруг листва в саду, – значит, владыка Амвросий дышит ароматом мёртвых роз, который подтачивает его энергию духа, его плоть?
Вандела молчала, накрапывал мелкий дождь, шум его заглушил восхождение в пространстве над зыбью Белого моря ещё одной, третьей женщины, слышавшей тайный разговор. На седьмой ступеньке радуги, охватившей внезапно море цветистой подковой, полулежала Фиолетовая, удивлённо вскидывая правую бровь, от всего сердца жалея Амвросия. Её мысль пока была занята одним – кто же из цветов на Низкой земле послал богине Флоре анонимку на эту мадам Роз, всегда гордую и напыщенную Ванделу. Фиолетовая вслушивалась в разговор, а он был таковым.
– Я замну анонимку, и не буду обсуждать твоё поведение на общем собрании цветов планеты, – продолжала сетовать Флора, не предполагая, что их подслушивает Фиолетовая, имеющая в пространстве Белого моря, в равновесии природы, особый статус, – для кого ты выращиваешь два куста розы благороднейшей окраски? Не пытайся убедить, что для себя, – богиня смеялась, – ты влюблена в того монаха-странника Анфима? Почему он заточил свою гордыню в чашу Чёрного Тюльпана, это ты способствовала его изгнанию, ты ему мстила?
Вандела лишь покачала головой: – нет, ваша светлость, монах Анфим, как мужчина, меня не устраивал, хотя, душа парила в облаках, ожидая трепета наслаждения из-за тщеславия. Мы перетирали простые лепестки, когда расцветали маки, есть такая детская игра в петушка и курочку, – она усмехнулась, – но уже тогда я была увлечена другим, – она помедлила, – молодым Елевферием.
– Ах да, припоминаю, – воскликнула Флора, рассмеявшись, – я видела его в тёмно-вишневом кафтане ,красиво расшитом по низу и под тона этого куста розы, -она коснулась бутона,- так вот кто твой избранник, величественный и гордый, с окладистою бородой, роскошной шевелюрой, хотя он еще такой молодой, разве он монах ?
Теперь пришла очередь рассмеяться и Ванделе: – в моём бальзаковском возрасте плоть могут удовлетворить только молодые, а кто они, меня не волнует, это их проблемы перед В с е в ы ш н и м, – она вдруг перешла на шёпот, – и вы не поверите, ваша светлость, какой он с л а д к и й, – она протянула последнее слово так смачно, что Флора улыбнулась, – итак, удовольствие всё за один букет роз, именно с этого тёмно-вишнёвого куста.
– Ты поставила меня в тупик, – удивилась Флора, – тогда кому батюшка Елевферий дарит тот букет, обменянный на удовольствие?
Вандела же захохотала громко и так вызывающе, что Фиолетовая передёрнулась и спустилась на зыбь моря, чтобы подслушать каждую деталь, потому что из-за шума накрапывающего дождя она не могла разобрать некоторые слова и улавливала суть по жестам. Мелкий дождь перебивался солнечным лучом и был слепым в призрачном пространстве, вся же свежесть доставалась лишь одной Фиолетовой, жаждущей услышать тайный разговор, меж тем он продолжался.
– Елевферий выходит с букетом тёмно-вишнёвых роз на тропу, через горы к морю, когда Преосвященный Амвросий возвращается с морской прогулки, весь одухотворённый, спеша к утренней трапезе, – улыбаясь, сказала Вандела, – они обнимаются, троекратно целуются, разговор их переходит на шёпот, потом владыка с букетом роз продолжает путь к себе в обитель, а молодой Елевферий гладит бороду и провожает большого экзарха мягким влюблённым взглядом, пока тот не скроется за выступ скалы.
– Это интересно, – сказала в раздумье Флора, – если поразмыслить, то в этом жесте много благородства, в православии всегда иерей приветствует иерарха букетом роз, белых или тёмно-вишнёвых, – Флора пожала плечами, – и ты ревнуешь, Вандела?
Мадам Роз смутилась и стала такой же пунцовой, как ею любимые бутоны садового куста.
– Это не то слово, – сказала глухо Вандела, – я в б е ш е н с т в е! Отряхнув свою рясу после меня, он бежит с моими розами на горную тропу целоваться с этим… пришельцем из космоса, у п ы р ё м!
– Ну не скажи, он самый что ни на есть мужчина, владыка Амвросий, – усмехнулась Флора, – ты облита вся яростью, а гнев не самый лучший попутчик в жизни, – теперь смеялась Флора, – Амвросий очень красивый мужчина – повторяла она, – несмотря на возраст, я ощущаю, как в его жилах бьётся горячая плоть, как магний выплёскивается наружу из чаш Чёрного Гладиолуса, сокрытого в десницах, я думаю, ничто человеческое и ему не чуждо, – помедлив, Флора добавила, – а как он справляется со своей плотью, это уже его проблема, не нам их судить. У них есть свой, высший суд.
– Ваша светлость так спокойно говорит о плоти, подобной магнию, которой играется экзарх, а я должна с этим мириться? – она сделала э к и в о к, то есть двусмысленный жест, намёк, – я мщу, в этом мой крест,- зло бросила Вандела.
Богиня Флора развела руками, – месть твоя напрасна, отравляя плантации роз, ты становишься преступницей в глазах моих сограждан, – она заговорила более жёстко, – если не усмиришь пыл, я устрою общее собрание повелительниц-эльфов цветов и вынесу тебе, великолепной мадам Роз, п о р и ц а н и е, – она покачала головой, – сейчас отравленный запах достаётся полевым цветам и владыке, кто следующий?
Вандела скривила улыбку, – одна очень прыткая монашенка покупает эти розы с таким подобострастием!
– И она дарит Амвросию букеты роз? – удивилась Флора.
– Та лишь посредница к своему владыке, монашка несёт розы старцу, охраннику, который постоянно щёлкает пальцами, напоминая Кентавра, спеси хоть отбавляй.
– Любимый цветок Кентавра – синий василек, он же посылает монашку за розами, – Флора помедлила, – владыка загадочный человек, ведь его личная жизнь задёрнута завесой от глаз обывателей, – и уже более сурово, – однако надо умерить пыл, мадам Роз, я пошлю на землю грозовой дождь, и он смоет отраву в листьях и бутонах.
– Только не надо молний! – воскликнула Вандела, – и без радуги, я не люблю видеть, как восседает на седьмой лестнице эта Фиолетовая!
– Вот тут я с тобой согласна, – рассмеялась Флора, – вот уж кто спесив в своей мнимой справедливости для всех в пространстве…
При последних словах облака на небе раздвинулись, и ярче обнажилась над морем радуга, выбросив свою цветную лестницу.
– Радуга, ваша светлость! – воскликнула Вандела, – над морем радуга, выходит, Фиолетовая нас подслушивает, может, анонимка дело её рук?
– Значит, дождя не будет, хотя тучи несли его нам, – спокойно ответила Флора, повернувшись в сторону радуги, помахав Фиолетовой жёлтой розой.
С этим жестом богиня весны и цветов растворилась в пространстве белого звука, оставив в глубоком раздумье Ванделу.
Фиолетовая лишь вздохнула, достала из бокового кармана белый платок и вытерла им вспотевшее лицо. Было душно, атмосфера жила в преддверии грозовых раскатов. Внезапно взгляд Ванделы упал на молоденький репейник, росший между плантацией и айвовым садом, он был так хрупок, его бутончик на цветоножке лишь завязывался, выбрасывая шелковистые ворсинки. Лицо же мадам Роз неожиданно окатила злоба, она дёрнула репейчик, но укололась, воскликнув: – ах ты, подкожный гад! Доносчик, прижился на моей земле, подкидыш, строчишь на меня анонимки? – Вандела была вне себя от бешенства, почему-то решив, что именно этот безобидный цветок из-за своего фиолетового цвета отравил ей жизнь и репутацию перед самой богиней Флорой.
Она стала вырывать его с корнем, он же не поддавался, лишь обжигал белые ладони мадам Роз. Тогда она стала топтать место под корнем с такой яростью, что пробудился в горах вулкан, взбудораженный, подобно медведю после зимней спячки, увидев, как мадам Роз топчет молоденький репей, занесённый в Красную книгу планеты, и загудел, осыпая пространство горячей лавой.
– Какая неосмотрительность, – подумала Фиолетовая, раскачиваясь над зыбью Белого моря, – издеваться над цветком за то, что он лишь имеет ненавистный ей фиолетовый цвет, – она тихонько засмеялась, – проснулся горный брат, теперь жди беды.
Море тотчас вздыбилось, охватив огромной пенистой волной скалистые горы, земля дрожала, раскалываясь надвое, горячая вулканическая лава вздыбилась и рассыпалась над морем, однако Фиолетовая успела подтянуть лестницу за облака и таким образом спаслась от ожогов. Толчок был таким сильным, что треснул остров Монаха и стал медленно погружаться на дно моря вместе со всеми его сокровищами, среди которых самым бесценным был Чёрный Гладиолус. В ту самую секунду Фиолетовая заметила, как Преосвященный Амвросий, борясь с гигантской волной, пытался с выступа прыгнуть в моторку, но ветер со штормовой волной преграждали ему путь и не давали разбежаться, перехватывая дыхание.
– Этот старик хочет подыграть стихии и остаться на плову, смельчак, да и только, – тихо молвила Фиолетовая, сочувствуя монаху в его потугах отринуть себя от острова, медленно опускавшего на дно моря.
Всё горело вокруг, земля, цветы, воздух дышал раскалённой лавой. Тогда Фиолетовая, добравшись до облаков и подтянув радужную лестницу, сбросила в море белое покрывало, которое легло между моторкой и погружающимся островом Монаха. Владыка, собрав последние силы, рванулся и упал на распростёртое полотно, штормовая волна отбросила моторку, но Фиолетовая успела подхватить конец полотна вместе с грузным телом Амвросия. Раскачав, она оттеснила покрывало к подошве горы.
– Зачем мне этот старик, потерявший сознание, – думала Фиолетовая, – мне нужен лишь его Чёрный Гладиолус, цветок, дышавший восковой спелостью, живой плотью, – она распростёрлась над его бесчувственным телом, осыпая штормовыми брызгами моря, – скалистый остров Монаха ушёл на дно, теперь он недоступен даже Флоре, – она смеялась, – лишь я одна смогу наслаждаться прелестями Чёрного Гладиолуса, пить его чёрное вино и вбирать в себя его магний, моя лестница уходит далеко, прорезывая пучину моря, касается самого дна, где тихо и нет запаха, того едкого запаха человеческой плоти, – Фиолетовая окинула шумящее пространство взглядом, – но я не могу бросить старика в беде, бесчувственного и бездыханного, надо попытаться дать ему шанс на обновление, – и она подтянула белое шёлковое покрывало, скользнула вниз по радуге и ушла дальше вдоль берега, спустившись на дно Белого моря в поисках острова Монаха с цветком неземной красоты – Чёрным Гладиолусом.
Фиолетовая,
которая живёт на радуге. Преосвященный Амвросий, подброшенный штормовой волной по счастливой случайности к подножию горы, пришёл в себя, и стал выбираться из покрывала. В конце концов разорвав полотно, привстал, в ушах гудел морской прибой, знобило, отчего большое грузное тело то и дело передёргивалось. Сквозь пелену он увидел свою моторку, которая покачивалась на волнах вдали от берега; почувствовав слабость, присел и вновь прикрыл отяжелевшие веки, вспоминая, что же случилось.
Тем временем, Фиолетовая, надев на себя самое нарядное платье чисто василькового цвета, незаметно поднялась с последней ступеньки, которая касалась дна морского, и, взмахнув краем платья, словно веером, обдала Амвросия свежим дыханием. Владыка, приподнявшись, вдыхал аромат то ли незнакомого цветка, то ли тот запах источала женщина. Фиолетовая провела ладонью перед его глазами, он выпрямился, увидев пространство сверкающей радуги над морем.
– Что сталось с нами? – спросил он неизвестно у кого, оглядывая выжженное пространство над горами и берегом, его взгляд упал на мелкий вьюнок в белой шапочке, чудом уцелевший на обгоревшей земле. Нервы у Амвросия были настолько обнажены, что, будучи сенситивом, он расслышал стон белого вьюнка.
– Проснулся горный брат в тот миг, когда Вандела истязала репейчик, занесённый в Красную книгу, два дня и две ночи лилась горячая лава, обрызгивая и смывая айвовый сад, плантацию роз на Низкой земле, полыхал и твой монастырь, лишь остались обуглившиеся камни, обрати внимание, что и Белое море покрылось гарью от ожогов и стало чёрным, – шептал вьюнок, – я выжил чудом, потому что слишком маленький, а горный брат всегда охранял неказистых, или тех, кто не вышел росточком.
– О боже праведный, мой монастырь! – владыка схватился за голову, – мои люди, строения, опять всё пошло прахом, опять я совсем один, – и его плечи затряслись от гулких рыданий, – пятнадцать лет назад, когда я начал строительство свободной обители, мне кто-то сказал, что горный брат просыпается у Белого моря через каждые пятнадцать лет, а перед его пробуждением в расщелинах появляется аурикула, красная примула, но я не поверил, а мог бы предотвратить катастрофу, – его стенания вновь услышала Фиолетовая и сжалилась над старым, но ещё таким красивым экзархом, и сбросила ему поясок, расшитый нитками всех цветов радуги.
Поясок упал на плечи Амвросия, он мысленно прервал слова молитвы, приподнялся с колен, снял поясок с плеча и охватил им кафтан, ощутив в тот миг прилив бодрости, его взгляд упал на тропу, меж обожжённых склонов, вдали шумели высокие кактусы, нетронутые вулканической лавой, они цвели, вытянувшись вдоль тропы, под самыми склонами, как бы под крышей скал, нависших над морем.
– Эди, – промолвил он, – мой Эди, вот кто мне поможет восстановить силы, пришёл и его черёд собирать камни на моём пути.
Однако, сделав шаг, он вдруг поймал себя на мысли: – ведь я дал слово Марии никогда не появляться в тех местах, лишь помогать деньгами воспитывать Эди, – он вздохнул, присел на обожжённый камень, затеребив поясок, – я ощущаю ещё чьё-то здесь присутствие, – и он оглянулся, но вокруг зияла пустота, – выходит, я нарушаю клятву, данную Марии пятнадцать лет назад, хотя тогда разве мог предвидеть, что все мои труды окажутся напрасными., Горячая лава зальёт строения монастыря, сгорит и моя рукопись вместе с рисунками Эдит, опустится на дно моря скалистый остров, но почему я спасся, кто помог облачить в белое покрывало? – с такими мыслями большой экзарх выходил на тропу, которая уводила в сторону вечнозелёных кактусов той «Дороги жизни», которую он когда-то предсказал Эдит, не думая, что и сам будет в ней нуждаться.
– Однако прошло столько лет, знает ли о нём Эди? Марии же нет, а на смертном одре она исповедовалась не мне, а п р и о р у, – владыка разговаривал сам с собою, тяжело шагая по извилистой тропе меж скал.
Его голос узнала богиня цветов Флора, не менее обеспокоенная тем, что из всех цветов её выжили только два, репейчик и белый стелющийся вьюнок. Выйдя из небесной тени, она подняла белое шёлковое покрывало у побережья и, встряхнув от пыли, пустила по ветру, последний и набросил шёлк покрывала на плечи удручённого экзарха.
Флора, впрочем, как и Фиолетовая, не всегда ладя меж собой, но по-своему каждая высоко чтя архиерея пространства Белого моря, решили помочь ему осилить «Дорогу жизни».
- Истоки
Чёрного Гладиолуса. Однажды после воскресной службы, когда молодой архиерей ступал по красному ковру под раскатистый звон колокола, из своих небесных покоев вышла Флора, оглядывая землю, цветущую по весне. Возможно, её привлек долгий и протяжный звон тяжёлого колокола; тогда архиерею было 35 лет и божий промысел вывел Флору на знаковую дорожку, богиню привлекла не яркая красота и стать монаха, а тот м а г н и й, который он излучал, рассыпая страждующим своё благословение.
Архиерей был рослым, с пышной шевелюрой и окладистой бородой, лысеющий пятачок на затылке зачёсывался так, что он практически не был виден, из ворота чёрного кафтана выглядывали обшлага зелёной рубахи, Флора поняла, что её встреча с архиереем выпадает на Троицу. К тому же, ей показалось, что она нашла того, кого так долго искала в пространстве белого звука. Дело в том, что однажды, когда богиня цветов пребывала в глубокой печали после жёстких ураганных ветров, нанёсших её царству цветов огромный ущерб, к ней снизошла сама Пресвятая Богородица, произнеся вещие слова: – Флора, ты всегда восхваляешь меня и одариваешь радостным всплеском цветов всевозможной окраски, маленькие самые неприхотливые васильки и ромашки, дерзкие одуванчики, пышные розы и тюльпаны, нарциссы и врачеватели-пионы ложатся к моему Лику на образах в церквях и монастырях. В твоём царстве есть место всем цветам, ты заступилась за неказистого репейчика, когда Вандела, самая коварная принцесса земли, хотела втоптать его в землю, – с этими словами Богородица, благословив Флору ещё на долгие лета, протянула ей луковицу, добавив, – в благодарность за твоё рвение и усердие я дарю клубень самого редкого цветка, которого ещё нет в природе, но с божьей помощью, усердными и правильными молитвами тот дивный цвет может появиться на свет божий, и тысячи паломников хлынут на то место, откуда он взойдёт, чтобы испить из его чаши энергию космической молодости и красоты.
– Это большая луковица напоминает мне клубень гладиолуса, – Флора улыбнулась, – в моём пространстве есть гладиолусы самых разных сортов, по цвету и строению они не менее прекрасны и восхитительны роз, лилий, гвоздик...
– Большая луковица Гладиолуса Печального, чёрного, как ночь, – сказала Богородица, если клубень приживется, то своим цветением покроет белый свет, напоминая затмение солнца, столько энергии в каждой чаше Гладиолуса Печального, если же бутоны проглянут в сумерках подобно лотосу, то звёзды могут перепутать небосвод и сойти в соцветия Печального.
– Это интересно, – удивилась Флора, – остаётся лишь найти подходящее место во Вселенной, чтобы сокровище могли лицезреть земляне.
– Мой совет, – сказала Богородица, – посади эту луковицу в чистой плоти человека, чтобы корень пророс именно оттуда, проник сквозь границы души и засветился в глазном дне, откуда и рассыплется магний, свет которого согреет страждущих, – Дева Мария добавила, – отправь своего избранника на поиски Белого моря самого чистого и непредсказуемого, – после этих слов Тень Небесная растворилась в солнечных бликах, лишь послышались последние увещания, – когда тот, кому предначертана моя луковица, споткнётся, дай ему подняться, чтобы я смогла охватить его Покровом.
Флора вздохнула, вдруг узрев в этом слишком большой крест для неё. Тогда Богородица снова вышла из Тени и сказала: – разве я не дарила тебе свободу, когда ты была очарована этим... – она усмехнулась, – простым маком?
Флора смутилась, ответив: – Лучезарная, но это был мак г о л у б о й, я просидела подле него только неделю, когда он цвёл, любуясь им и наслаждаясь его запахом, ведь голубого мака фактически нет в природе, только благодаря тому, что маки каждую весну меняют окраску, выспел вот такой дивный голубой, который я неожиданно заметила.
Потом я собрала все коробочки с семенами и разметала по Низкой земле вдоль гор и побережья Белого моря. Лишь на другую весну взошли жёлтые маки, те, что схожи с полярными, выживающими подо льдом, поскольку в ту весну море было очень холодным.
Богородица спрятала улыбку: – однако тот голубой мак был таким простым по форме, лишь цвет его, да.., цвет редчайший, и я любовалась им, ты права, не встретишь в обычной природе мак голубой.
– Тот мак был душой нараспашку, его же венчик горел пронзительным голубым цветом, однако тычинки имели не как у всех маков чёрные полутона, а бледно-жёлтые. Голубой мак навевал мне сон, я проспала подле него неделю, в сладости восприятий забыв все свои неотложные дела, я виновата, – призналась Флора, – пришла моя очередь искупить вину.
- Я отвернулась, увидев, что богиня Флора, восхваляющая всякое М о ё Д ы х а н и е, вдруг преклонила колено перед каким-то голубым маком, но.., это в прошлом, хотя, порою, вы были прекрасны, и голубой мак, и сама Флора в небесном одеянии.
– Я искуплю свою вину, – сказала Флора, – спрятав клубень Печального Гладиолуса в нагрудный карман, пообещав Лучезарной найти самое достойное место для его произрастания.
Итак, весна била ключом в тот воскресный день, когда молодой архиерей под раскатистый звон колокола выходил из храма, за ним шёл мальчик такой же красивый, как и сам архиерей, в чёрном одеянии, неся следом, подняв высоко, букет тёмно-вишнёвых роз. И в тот миг Флора приметила архиерея и выбрала его для своего эксперимента. Вынув заветную луковицу из нагрудного кармана, она тут же запекла её под лучом солнца и, прикрыв шлейфом, спустилась на землю в аккурат в тот миг, когда архиерей щедро дарил благословение прихожанам. Приняв вид простой крестьянки, Флора склонила голову перед высоким служителем церкви. Придерживая поступь, экзарх положил большую ладонь на голову мнимой прихожанки, слегка сдавив её виски, в тот миг Флора, ощутив под монашеской одеждой живую плоть, опустила в разрез верхней одежды луковицу. Так что в это знаковое воскресение, а оно было еще и В е р б н ы м, молодому архиерею повезло, ему было оказано внимание самой богиней Флорой под видом простой прихожанки.
После всепоглощающей праздничной службы, приехав в свои покои, архиерей снял верхний чёрный кафтан, коснувшись ладонью тёплого предмета в разрезе платья, вынул н е ч т о, удивившее его. Это была большая луковица, запечённая в тесте, ещё горячая, словно её только вынули из жаровни, румяная и аппетитная, вызвавшая удивление.
Архиерей, вдыхая запах, и сразу почувствовав голод, надкусил, по вкусу пища понравилась, во всём теле разлилась сладость, луковица в тесте истекала соком, экзарх вскоре пожалел, что она слишком мала для утоления голода. После этого он уснул, бодрствуя во сне до двух часов ночи. В этот час луна залила окно архиерея мягким светом, было такое чувство, что волшебница вошла к нему в гости в маленький ,низкий домик и охватила комнату яркими бликами, архиерей перевернулся на спину, вбирая в себя необычное сияние луны, посетившей его в два часа ночи. Потом он резко поднялся, набросил на плечи кафтан и вышел во двор, тоже залитый лунным светом; в тот миг увидела его Флора, лишь шумно вздохнула, уловив в своём избраннике, точнее в тени, упавшей от его силуэта в лунном сиянии, как пробуждался во плоти экзарха Чё р н ы й Г л а д и о л у с. Слишком велика была ноша, которую Богородица, а следом и богиня Флора взвалили на архиерея, нарекая в пути испытаний на прочность именем А м в р о с и й, то есть б о ж е с т в е н н ы й.
- Благословение
большого экзарха. Итак, земля была выжжена, даже дождь, прошумевший после извержения вулкана, не смягчил боли. Флора негодовала, все её труды по обновлению Низкой земли вокруг побережья Белого моря оказались напрасными. Не было даже мелкой ромашки, самой стойкой, не цвели милые сердцу одуванчики, не радовала примула своим весенним разноликим всполохом. Неожиданно её осенила мысль: – Эдит! Вот кто ей поможет! – воскликнула богиня цветов, – когда-то она помогла её бедной матери обрести счастье, – Флора отстегнула маленькую позолоченную булавочку, уколов пальчик, ища по струйке крови, а кровь у богини Флоры была голубой, Эдит. В тот миг она увидела художницу, сбившуюся с «Дороги жизни», Флора усмехнулась, потому что вид у юной леди был не столь опрятным в путешествии. Возможно, в своё время, когда девушке исполнилось 15 лет, именно Флора направила Эдит пройти через коридоры страждущих в ожидании благословения экзарха, чтобы все они, созерцая её белую и красивую, достаточно открытой грудью из под блузы, увидели, что есть и другие более совершенные и одарённые дети от природы!
Итак, перехватив Эдит ранним утром, удручённую мнимой гибелью любимого экзарха, Флора решительно развернула её назад, к побережью.
– О боже! – воскликнула Эдит, – я же обронила свой последний пастельный карандаш ,а планшет ушел под воды вместе с островом монаха! – вздохнув, она вернулась к побережью, как вдруг навстречу вышла Флора в небесном одеянии.
– Ваша светлость! – воскликнула Эдит, узнав в роскошной фее Флору, – извините за мой неопрятный вид, – и она запахнула блузу на груди, – я вся в трансе по экзарху, к тому же в пути обронила последний розовый карандаш.
Флора, присев, разгребла ладонями серый, уже остывший пепел, найдя в нём пастельный карандаш.
– О, ваша светлость, – Эдит взяла карандаш, слегка очистив его от грязи, – жаль только, что мой планшет остался на острове Монаха, который погружён на дно моря, но и карандаш радость!
– Твой монах жив, – усмехнулась Флора, – успел выплыть во время стихии, он слишком жилистый!
– Амвросий не утонул? – восторга Эдит не было предела, – он жив...
– Всё в прошлом, Эдит, – улыбнулась Флора, – экзарх на пути к тайне обновления, однако сейчас его не надо трогать, он погружён в глубину осмысления Великого Поста.
– Спасибо, царица, – сказала Эдит, – во всём была виновата я, потому что забыла на острове планшет.
– Помогла не я, – улыбнулась Флора, – это Богородица охватила большого экзарха П о к р о в о м и вывела его из шока, теперь ты должна нам помочь.
– Помочь, но как? – удивилась Эдит, – я смертная, у меня нет ни матери, ни планшета, сгорел монастырь, дававший мне приют, я разминулась с Преосвященным Амвросием, да и станет он знаться со мной, ведь во всём виновата я, к тому же я бедная.
– Хватит терзать себя, – спокойно сказала Флора, – когда-то я помогла твоей матери обрести счастье, ей удалось родить дочь, – и Флора отколола другую булавочку от верхнего манжета голубого платья и протянула Эдит, – закрой свою грудь, подхвати блузу наискось.
Эдит, смутившись, последовала совету Флоры, но укололась, вскрикнув, однако, не заметив, как из пальчика брызнула струйка крови и упала на обожжённую землю, которую Флора пыталась обновить.
– Мать была очень скрытной и унесла в могилу тайну моего рождения, ваша светлость, – сказала Эдит, высасывая кровь из пальчика.
Флора улыбнулась и жестом попросила Эдит присесть на один из камней, устроилась и сама рядом, перебирая волосы Эдит, поведав ей о тайне рождения.
- – Твою мать звали Марфа? – так вот однажды после воскресной службы маленькая женщина подошла к священнику и вынула из молитвенника два злотых, протянув батюшке за усердие и красноречие. Тот принял подношение от христианки, осенив крестным знамением.
– У меня так болят ноги, – сказала маленькая женщина, – может, я больше не смогу дойти до церкви, а детей не послал мне бог, как я его ни просила, – излив свою горечь, она отошла в сторонку, дав другим молящим приложиться к нагрудному кресту священника.
Была середина июля, разгар жаркого лета, полнолуние, хорошее предзнаменование для добрых дел. Так случилось, что Богородица заметила в то воскресение, как бедная Марфа, отдавая свои последние злотые, тем самым поддерживала церковь; после этого Дева Мария прониклась участием к её одиночеству.
В тот самый миг мне был дан Знак Свыше и я отправилась навстречу, приняв вид нищенки. Вздохнув, женщина снова открыла молитвенник и отдала нищенке последний злотый, рассуждая, что у неё дома есть во дворе маленькое озеро, где цветут одуванчики, из корней которых она делает сладкий кофе, а что ещё надо в жизни! – думала Марфа ,и всё это было написано на её добром лице.
Расставшись с последним злотым, она без сожаления направилась домой. Зайдя в комнату, женщина увидела на столике бутыль с чистой водой, в которой плавало большое семя. Марфа подумала, что это соседка решила отблагодарить её за сладкий кофе из корней одуванчиков, которым она щедро потчевала по вечерам. Поставив бутыль на подоконник, распахнув ставни, чтобы на ночь влилось больше свежего воздуха, вскоре
она уснула. А под утро посыпал такой красивый дождь с грозой, но без молний, Марфа улыбнулась, подошла к окну полюбоваться стихией и вдруг увидела, что в бутыле семя проросло за ночь. Марфа всплеснула руками, вынесла сосуд и, пробежав под дождём, выплеснула в озеро, которое от обильных дождевых потоков раздалось и вышло из берегов. Потом женщина ушла хлопотать по хозяйству, как вдруг услышала громкий крик
соседки: – чудо! – чудо, Марфа!
Всполошились все, кто был в тот миг дома, выбежали к озеру. Над водой всплыл огромный бутон, его чаша медленно распахивалась на глазах собравшихся, приоткрывались белые лепестки. Бутон походил на кувшинку, но очень большую, источая такое благоухание, что Марфа упала на колени и стала молиться, а сердце билось учащённо. Так прошло часа три, цветок сомкнул лепестки и стал медленно погружаться под воду, оставляя лишь на поверхности листья, оттуда раздался плач грудного ребёнка. Марфа вскочила с колен, подняла подол платья и, переступив холодную воду, взяла кричащее дитя с большого листа и прижала к груди. Это была девочка с нежной белой кожей под цвет лепестков дивной кувшинки и такими же волосами. Марфа вынесла ребёнка из воды и глянула на небо, радости её не было предела.
– Спасибо тебе, Пресвятая Богородица, что ты посмотрела и в мою сторону, подарив мне на старости утешение, девочку, да ещё такую красивую!
Закончив рассказ, Флора обняла Эдит и вздохнула.
– О, ваша светлость, вы так растрогали меня, – сказала девушка, – теперь я понимаю, почему мать унесла в могилу тайну моего рождения, ведь у меня не было отца.
– Как не было отца?! – воскликнула удивлённая Флора, – О т е ц всегда есть, Творец Небесный покрывает нас своею благодатью!
– Может, вы и правы, – ответила она, – но почему тогда мать назвала меня Эдит? Уж лучше было бы Л и‑ л и я, или скорей М а р и я..?
– Так звали соседку, которая первой заметила чудо на озере и позвала мать, – сказала Флора, – ведь Марфа могла проспать своё счастье и оно бы досталось другому, хотя озеро принадлежало ей.
– Это успокаивает, – усмехнулась Эдит, – значит, ваша светлость, я обязана вам своим происхождением, – она улыбнулась, – так вот почему в моей душе всегда ощущение приторного аромата белой кувшинки, хотя со временем озеро пересохло, а когда я выросла, то видела только флоксы, они цвели до самых холодов.
– Ты помнишь эти цветы? – спросила Флора, – ты можешь их нарисовать по памяти?
– Флоксы похожи на цвет моей крови, – и Эдит засмеялась, – только у меня нет инструментов.
– Это не проблема, – и Флора сняла с платья новую булавочку и прочертила ей по ладони Эдит, та слегка вскрикнула, в тот самый миг у ног художницы появился маленький чемоданчик.
– Б а л е т к а! – воскликнула Эдит, раскрыла его, а там целый набор разных пастельных карандашей, кисточек, больших и маленьких, флакончики с красками, – но нет бумаги, ваша светлость!
– А бумага, это наша земля, – улыбнулась Флора, – я заметила в пути слегка обгоревший папирус, правда, колос его несколько обожжён, но при усердии можно расчленить стебель на полоски бумаги, подобно той, на которой писал свои размышления большой экзарх.
– Это успокаивает, – сказала Эдит, – хотя всё, что я могу рисовать по памяти – это флокс, притом розовый, или малиновый, собранный в букет на цветоножке, такой флокс цвёл в нашем дворе, – она смеялась, – целый букет на одном стебле! – Эдит разгребла руками пепел и стала рисовать флокс на земле, рисунок выходил таким красивым и точным, на миг Флоре показалось, что он живой.
– Эдит, ты нарисовала живой флокс! – воскликнула Флора.
– Нет, ваша светлость, – я нарисовала флокс, как живой.
Однако Флора, радостная, что её земля снова возрождается, была не согласна с Эдит. Художнице стало жарко, и она распахнула ворот блузы, опять уколовшись, из пальчика просочилась кровь и упала на рисованные флоксы, цветы распрямились, раздались в букетах и охватили всё пространство таким ароматом, что Флора закружилась от радости.
– Вы правы, ваша светлость, – крикнула Эдит, – земля возрождается, и первыми на ней цветами становятся флоксы, факелы жизни, их так называла моя мама, – Эдит оглянулась, – ваша светлость.., – но Флоры и след простыл, лишь повсюду витал аромат, он шёл то ли от флоксов, то ли это был след богини цветов Флоры, которой подала знак сама Пресвятая Богородица выйти навстречу Эдит.
Украсив рисунками землю, ей теперь надо было расчленить стебель папирус, чтобы выразить это ещё и на бумаге, показав при случае Амвросию, а она надеялась на тайную с ним встречу.
– Он жив! – Эдит смеялась, рисуя флоксы, – он жив, – её радости не было предела, – он ж и в! – повторяла она бессчётное количество раз.
- Восхождение
– Но Марии нет, – неожиданно вслух сказал Амвросий, перекрестившись,– пусть земля ей будет вечным пухом, почувствует ли мою суть Эди? Почувствует ли он моё восхождение к нему, моё дыхание, мой запах?
Владыка шёл по обожжённой земле, слегка ссутулившись, в пути ветер сорвал с плеч белое покрывало, наброшенное Фиолетовой, отчего тяжесть утраты была такой сильной, что скупая слеза, набежавшая из глаз, скатилась по щеке, упав под ноги, однако ветер отбросил солёную крупинку на обочину тропы, она зазвенела, и почти под рукой неожиданно вырос высокий георгин с огромной шапкой, чашей в полуроспуске. Увидев георгин, владыка усмехнулся, коснувшись цветка.
– Спасибо, дружок, – сказал он, – ты предначертал моё одиночество, – в полураскрывшейся чаше, внутри розовых лепестков сверкала роса, владыка слизал влагу языком, утоляя, таким образом, жажду. Георгин был красивым, раздавшимся, с крупными листьями, от него падала густая тень, в которой решил передохнуть экзарх. Ночь охватила его своим покровом, и отчётливо вырос Млечный путь, развернувшись прямо над ним, словно указывая куда следовать.
После непродолжительного сна Амвросий ощутил в душе радость, то ли от того, что подул свежий ветер с гор, то ли от встречи с распахнутой чашей георгина, под дуновение ветра смахнувшего прямо в его ладони пригоршню сладкой росы. Умывшись, он вздохнул на полную грудь и замер от удивления. Впереди звенела земля, не смытая и не обожжённая вулканической лавой, не тронутая стихией, землю разбивала вытоптанная тропа, по сторонам которой плотной стеной стояли кактусы, охваченные розовым цветением, владыка ступил на тропу с глухим биением сердца, потрогав плотные лепестки кактусов, они были крестообразны.
– Крестный путь, – сказал он, – я вышел на «Дорогу жизни»,я вспомнил… – Амвросий расправил запылённую мантию, пригнувшись, смахнул пыль с ботинок, износившихся от долгих поисков желанной стёжки. Вдали, на пригорке, возвышалась церквушка, вокруг которой кустились гряды петуний, их приторный запах обволакивал белое пространство. Амвросий в предчувствии встречи ускорил шаг, забыв про неимоверную боль в суставах. На нижней ступеньке каплицы стоял высокий юноша, на нём был чёрный пиджак под чёрную рубаху с бабочкой, на груди отсвечивался большой серебряный крест с распятием Спасителя.
Архиерей, поборов внутренний страх, толкнул железные ворота, украшенные разноцветными флажками, ступил на дорожку, выложенную мраморной плиткою, и замер.
– Откуда путь держите, Ваше Преосвященство? – хозяин вышел навстречу гостю, – архиерейская мантия вся в пыли, полы её потрепаны?
Владыка почувствовал, как гулко забилось сердце, вздрогнули руки.
– Э д и ? – прерывисто дыша, спросил он, – м а л ь‑ ч и к Э д и? – Амвросий приблизился вплотную, слегка коснувшись плеча юноши.
– Так звала меня только одна женщина, – тихо и раздельно ответил он, удивлённый и смущённый неожиданным обращением к нему старого монаха в архиерейской мантии, – м а т ь, – тут же поднял глаза к небу, – но она там...
Они перекрестились одновременно, и это ещё больше удивило юношу.
– Да, я слышал, что Мария умерла, – Амвросий припал на колено, собрал меж грядок петуний горсть земли, сжал её в ладони, а потом развеял по воздуху.
Юноша побледнел, взгляд его застыл, словно сделался стеклянным, он приподнял гостя.
– П а п а, – глухо шепнул он, – д о р о г о й п а п а! – в глазах двух мужчин навернулись слёзы, мешая смотреть друг на друга.
-Я слышал, что ты незрячий, но ты увидел меня ,-сердце владыки радостно забилось.
- -Обливалась слезою и душа автора, описывая встречу двух монахов старого и молодого, казалось, вздыхал и высокий роскошный георгин, развернувшись розовой шапкою к первому восходящему лучу солнца, такой она был трогательной.
- П а п а, – повторял юноша несколько раз.- Я вижу то, что подсказывает мне душа!.
– У з н а л всё-таки? – Амвросий обнял Эди, прижал к груди и они ,обнявшись, хлопая друг друга по плечу троекратно , по-христианки расцеловались.
– Я почувствовал это, – сказал тихо Эди, обнимая экзарха, – ещё не видя вас, ветер донёс какой-то специфический запах...
– Это запах ладанки, сынок, – тихо сказал Амвросий, – не каждому он по душе, но раз принял мой терпкий з а п а х.
Амвросий резко смахнул со щеки слезу: – прошло почти двадцать лет, – он вздохнул, – в ту роковую ночь, когда я вошёл с митрой к Марии, неся на руках умирающего младенца-уродца, полукалеку, разве я мог предположить, что из него вырастет такой красавец, как тот георгин, который встретился мне в пути к вашей обители, – он растёр слезу, – я расчувствовался, может потому, что ослаб от всех потрясений, выпавших на мою долю, но как не удивляться п р о м ы с л у б о ж и е м у, который сам расставляет акценты и говорит чей ты чадо церкви, – невесть откуда сорвался ветер, словно радуясь встрече, завертелась карусель и сплошной стеной обрушился ливень.
– Дождь, это хорошо, – сказал Эди, – у нас давно не было дождя, – и он обнял Амвросия за плечи, и ввёл в дом из белого камня, стоящий рядом с каплицей.
– По одежде и ботинкам видно, что путь ваш был долгим и тернистым.
Эди помогал раздеться Амвросию, сбрасывая его потрёпанную одежду в нишу шкафа. Комната была высокая и светлая, хотя и обставленная скромно, в центре, почти у самого большого окна, задёрнутого шторой, висела картина, воскрешающая Лик Пресвятой Богородицы.
– Вы помните эту комнату? – тихо спросил Эди, повёл глазами на потолок, там ещё висел крюк, – вот здесь раскачивалась моя люлька, – он рассмеялся, – я оставил этот крючок для памяти о моём небесном и безоблачном детстве, – позже, когда умерла мать, я повесил картину, которую больше всего любила Мария, это копия с одной фрески, а может, произведение самого Эль Греко, – он пожал плечами, – в ней столько правды, Эль Греко мог вдыхать в христианские сюжеты столько неподдельной жизни и любви к Господу.
– Да, мой мальчик, я узнал эту комнату, – сказал владыка, – хотя видел её мимолётом, однако в ней витает всё тот же воздух, да и штора не изменилась, – он рассмеялся, – она и тогда тоже закрывала плотно окно.
– Мама не любила менять вещи, лишь изредка освежала их, конечно, штора другая, п а п а, но я сделал её так, чтобы она всегда напоминала мне радужные мотивы детства, – они улыбнулись друг другу, и Эди продолжил, – в моей жизни с сегодняшнего дня уже два радостных события, накануне, я могу лишь гордиться этим, рукоположил сам первого священника, правда, он совсем ещё мальчик, но такой красивый и славный.
– Эди! – Амвросий прижал его к груди, – мальчик мой, вот ты самый красивый, – архиерей вздохнул, – я опоздал…
– Нет, вы пришли вовремя, п а п а, – тихо ответил Эди, – так было угодно провидению, чтобы и я стал священником, это случилось как раз перед смертью матери, но я был счастлив тогда вдвойне, она умирала в канун П а с х и.
– Возможно, – ответил Амвросий, – счастье с несчастьем порою соседствуют так близко, мы же не всегда можем предположить, что будет первым и когда одно сменится другим.
– Через эту дверь пройдя, – Эди указал на вмонтированный в стену проём, – вы приведёте себя в порядок, там будет лежать для вас нужная чистая одежда, – Эди нажал кнопку сигнализации, стена раздвинулась, и открылся коридор, облицованный белым мрамором, – я распоряжусь принести всё новое для облачения.
– Мне нужен только чистый кафтан и белая полотняная рубаха, – владыка похлопал Эди по плечу. Издали доносился шум грозового ливня, бившего по стёклам снаружи
– Гроза без молнии, вот что я всегда любил, – и он открыл дверь в комнату для гостей, где и расположился на время, сменив одежду и переключив регистр мышления на особое молитвенное состояние.
Примерно через час Амвросий и Эди снова встретились, уже за более чем скромной трапезой.
– Я угощаю вас своим любимым деликатесом, – и он пододвинул на серебряном подносе две запечённые в тесте большие луковицы, налил в хрустальную рюмочку белого вина.
Амвросий не спеша отрезал кусочек от луковицы и медленно положил в рот, разжевал и запил глотком вина: – вкусно! – сказал он, – кажется, нечто подобное впервые съел в тридцать пять лет, но тогда без вина! – он засмеялся, – а сейчас я сразу охмелел, быть может, скорее от обретённого счастья.
– Это клубень гладиолуса, – ответил Эди, – подарок богини Флоры моей матери за то, что она ухаживала за самыми неказистыми, маленькими цветами, – и Эди кивнул на вазочку, в которой стоял один цветок, похожий на ромашку, но с фиолетовыми лепестками и коричневым сердцем.
Амвросий улыбнулся: – да, эта ромашка красива, хоть и мала, я бы хотел увидеть аллею гладиолусов.
– Того, кого бы вы жаждали лицезреть, – ответил Эди, – нет, из клубня выходят только детки, а самого редкого, очень роскошного на планете Чёрного Гладиолуса, как такового, нет, всякой расцветки произрастают во дворе за каплицей, красные, пестрые, розовые, белые, жёлтые, – Эди отрезал и себе кусочек от запечённой луковицы, положил в рот, запив вином, – мама жила одна, клубень же Чёрного Гладиолуса питается мужской плотью, тогда растение выбрасывает тот дивный чёрный букет в соцветиях, снизу доверху по цветоножке, – Эди хотел подлить вина в рюмочку Амвросия, однако тот прикрыл её ладонью.
– Достаточно на сегодня, вино возбуждает плоть и, хотя я стар, но нет-нет, да вскипает моя кровь, – он усмехнулся и продолжил трапезу, – я так думаю, – после паузы сказал Амвросий почти на последнем дыхании, – что преображает всегда нас, это незримое присутствие образов святых реликвий. Помнится, в твоих пеленах была спрятана иконочка Одигитрия.
– Мама её сохранила, – тихо сказал Эди.
– Неужели Одигитрия уцелела в поместье? – удивился Амвросий, – выходит, что именно Покров Одигитрии сделал тебя таким красивым, рослым, просто одно загляденье!
– Меня преобразило таинство крещения, п а п а, – ответил Эди, – я почти не видел, никто не уделял мне внимания, кроме матери.
Амвросий слегка коснулся век Эди: – мальчик мой, сейчас я не сказал бы, что ты слеп?
Эди не стал скромничать и поделился с владыкой сокровенным.
Было время, когда я очень любил сказки, а, значит, и маленьких детей. Для них устраивал представления, более всех по Астрид Линдгрен, она была и осталась моим кумиром, – Эди вздохнул, – хотя, знаете, п а п а, уж лучше не сотвори кумира, Линдгрен умерла где-то в 95 лет, но приор сумел вызвать её Дух, и на одно представление «Пеппи – длинный чулок» Астрид прибыла в фаэтоне на лошадях из далёкой и холодной Швеции, – Эди, пригубив вина, продолжил,– и надо же такому случиться, именно с Астрид приехала одна девушка, которая пахла водяной лилией. Вот тогда-то от сладких ощущений я, возможно, и начал прозревать, чтобы не только насладиться запахом кувшинки, но и увидеть лицо девушки. Лишь она исчезла, оставив меня в растерянности и тогда я дал зарок, что более никто, никто, п а п а, не смутит мой покой. Всю весну цвели примулы, мамины любимые цветы, я же был глух ко всему, что творилось вокруг, кто-то из детей, прибывших на представление сказки, кажется, её звали Кристина, сказал, что у девушки белое платье в примулах, и одна из них живая, горная аурикула, которая выполняет одно желание, загаданное только на себя…
Амвросий вдруг прервал рассказ Эди: – уж не художница ли нашей обители, Эдит?
– Да, помнится, девушку звали Эдит, она выдавала себя за секретаря Линдгрен.
– Надо хорошо знать Эдит, – усмехнулся владыка, – чтобы понять, почему она выдала себя за секретаря Линдгрен ?
Эди промолчал; после скромной трапезы они вышли на природу, освежившуюся мгновенным дождём. Эди повёл Амвросия к аллее гладиолусов, тёмно-пурпурные, розовые, фиолетовые, пёстрые, жёлтые цветы разрослись целым садом, владыке показалось, что мелькнула тень Марии, он придержал шаг, припав плечом к спине Эди, благо, что они оба были почти в один рост.
– Что случилось, п а п а? – заметив волнение Амвросия, спросил Эди, – вы кого-то увидели? Амвросий покачал головой, вздохнув, продолжил воспоминание.
– Это всё мираж, Эди, – ответил он, – двадцать лет я в мыслях шёл сюда, чтобы увидеть Марию, воспитавшую тебя, как сына. В тот вечер, когда я привёз тебя, она вышла мне навстречу, и я увидел женщину, прелестнее самого красивого цветка, я сказал ей тогда, передавая в руки посиневшего от крика уродца, – где она была раньше? – Амвросий усмехнулся и развёл руками, – мы дали друг другу слово, что больше никогда не встретимся, я более никогда сюда не приеду, но.., – Амвросий разволновался, – человек предполагает, а господь располагает,– он глухо вздохнул, – сейчас я не в тех годах, у меня сожжён монастырь, все постройки опалены раскалённой лавой, и потому я здесь, Эди.., – он помедлил, – наверное, когда ты уже сам рукоположил первого священника, я должен называть тебя… ксёндз Эди? – и владыка обнял его снова.
- – Сейчас не важно, как вы меня назовёте, – Эди поцелуем коснулся щеки Амвросия, – встреча с вами для меня сегодня П а с х а, за эти годы я понял, что только вы не забывали нас, отправляли с монахами в поместье деньги на мою учёбу за границей, я не уверен, что вы так богаты, ведь ваши сбережения заработаны одним праведным трудом. На эти средства мы построили каплицу и рядом приходской дом, обновили наш старинный замок, теперь же пришла наша очередь помочь, – Эди помедлил, – теперь я могу дать средства, п а п а, – последние слова он произнёс с нежностью, – их вам хватит на постройку нового монастыря, и в нашей округе есть заброшенные церкви, запущенные скиты, в которых бродит К е н т а в р, я уверен, что, ваши силы воспрянут.
– Спасибо, Эди, – владыка смахнул слезу, – возможно, теперь я не смогу взойти на гору, потеря монастыря, который поднял вот этой рукой, – он стукнул ребром правой ладони, – сам из бутового камня, как бы строя на вечность и, что скрывать, плоть моя застыла, Чёрный Гладиолус – Цветок Жизни сник и погружён вместе с островом на дно моря, после молитвы появляется одно желание, уйти в небытие и не возвращаться на землю более никогда.
Амвросий и Эди миновали аллею гладиолусов и остановились возле пригорка, поросшего зелёным мхом. Юноша изменился в лице, припал на колено и стал целовать камень, увитый стелющимися цветами.
– Здесь о н а потеряла сознание и здесь я её похоронил позже, – тихо промолвил Эди.
Владыка осенил пространство крестным знамением. Они расслабились, каждый погрузился в себя с молитвой, которая преобразила их лица, и на мгновения сделала похожими друг на друга.
После глубокого молчания, Амвросий продолжил: – я уловил мелькнувшую тень в зарослях гладиолусов, и сразу понял, что могила где-то близко.
Обнявшись по-братски, они свернули к замку и провели в беседах весь остаток пути.
Через семь дней, подкрепившись, с новыми силами Амвросий засобирался в дорогу.
– Мой дом и каплица, замок Марии это и ваши пристанища, п а п а, – нежно сказал Эди, сворачивая архиерейскую мантию в чемоданчик, – мы почистили ваши одежды, подлатали и они стали, как новые, когда выйдете на место своего избранного для постройки монастыря, можете в них переодеться, – он протянул владыке посох,– я сделал эту трость сам, выточил из красного дуба, набалдашник оправил серебром и сделал более выпуклым, с секретом, – Эди хитро улыбнулся, повторив раздельно, – с с е к р е т о м.., – он придавил большим пальцем округлость посоха и место тотчас раскрылось, подобно чаше цветка, развернувшейся в полдень к солнцу.
Экзарх взял в руки посох, внимательно взглянул в пространство округлости, вдруг изменившись в лице. – О д и г и т р и я? – тихо, с удивлением и радостью промолвил он.
Эди кивнул головой. Секрет приоткрывал вмонтированную иконочку Одигитрию.
Коснувшись поцелуем Лика Матери Путеводительницы, экзарх вдавил округлость набалдашника, трость в миг захлопнулась.
– Я счастлив, брат мой! – Амвросий широко улыбнулся, – счастлив!
– Мы вернули вам иконочку, – тихо сказал Эди, – в нашем замке она была самой дорогой реликвией, возможно, теперь в долгой дороге к истине прозрения, она и вам пригодится.
– Сейчас я ощутил в душе П а с х у, – сказал экзарх,– мы стареем, а П а с х а молодеет, букет переживаний всё свежей, всё зримей, всё чувственнее, брат мой католик, – экзарх, обняв, трижды поцеловал Эди, похлопав в знак напутствия правой рукою по спине, – --Да б у д у т в с е Е д и н о!
– Д а б у д у т в с е Е д и н о, – повторил Эди, – я положил вам в чемоданчик монеты серебром, пришло моё время возвращать долги славному пастырю,– ксёндз помедлил, – самое главное, п а п а, что итальянские монахини-паломники пошили вам за две ночи б е л ы й к л о б у к, высветив более ярче его середину крестом из чистого серебра, – Эди коснулся рукой сверкающего шёлка головного убора архиерея, – пусть это ознаменует чистоту ваших помыслов, проникнутых божественным светом, который я ощущал в общении с вами, – он надел на экзарха белый клобук, поправляя шёлк шлема.
– Брат мой, – растроганно сказал Амвросий, – ксёндз Эди, все эти дни, проведённые вместе, были для меня восхождением. Я сделал такой шаг! – экзарх помедлил, – такой шаг.., даже сам от себя не ожидал, – он поймал взгляд Эди, – я рад вдвойне и от того, что ты видишь меня воочию, что ты прозрел, а следом и я за тобою. Я взошёл по своей гордыне вверх и понял, как это прекрасно, – они обнялись в последний раз ,повторив снова вместе: – Д а б у д у т в с е Е д и н о!
Эди проводил экзарха до поворота, откуда начиналась земля, обожжённая вулканической лавой, а вдали за горами притихло Белое море, оно было спокойно, словно тоже в своей стихии подкреплялось предчувствием ожидания, что большой экзарх вернётся домой и продолжит дело своей жизни, начатое им еще двадцать лет назад.
Одигитрия. Пространство вокруг Белого моря было ещё больным от пепла, остывавшего медленно, вследствие высокой температуры в атмосфере, тогда Флора решилась на такой шаг, – в ту воронку, расположенную куполообразно над самой вершиной скалистых гор, с помощью встречного ветра, в белый пепел набросала семян живучего чертополоха, – последний вырос так быстро, расправил листья, а там, гляди, поднялся и стебель в рост, приоткрылись венчики, вокруг них алые щётки цветиков. Чертополохом Флора решила отогнать Кентавра от Белого моря, чтобы сошли все напасти с Низкой земли между горами; потом налетели невесть откуда взявшиеся шмели, воскресая опустевшее пространство своим неугомонным жужжанием, питаясь нектаром чертополоха.
Именно сюда, почти до самой воронки кратера, поднялся экзарх, решивший передохнуть и переодеться. Отложив в сторону посох, оглянулся, ища знакомую долину нарциссов, где когда-то рядом с источником процветал монастырь, вслушался в звонкое пространство, вдали с горы было видно, как плескалось море, на нём был штиль, что случалось не так часто, как бы даже море приветствовало спокойствием появление самого экзарха. Чуткое ухо его уловило журчанье воды, он вздрогнул, улыбнувшись. Присел, обследовал ладонью местность, уколовшись цветком чертополоха, и в тот миг ощутил влагу. Припав ниц, он заметил тонкий ручеёк, бегущий меж каменьев в зарослях чертополоха. Экзарх вздохнул, поднялся, прикрыл тяжёлые веки; по всей вероятности, подумал он, – ручеек бежит в долину Нарциссов, в то самое место, где однажды на подъёме нашёл в расщелине красную аурикулу.
Придав бы этому значение, мог сохранить свиток папируса, Книгу Жизни с истоками Чёрного Гладиолуса. Владыка Амвросий сбросил на камни новую мантию, дарованную ему ксёндзом Эди, напился пригоршнями сладкой воды, потом смыл с себя пот, переодевшись в кафтан, почищенный и обновлённый, достал из разреза белую расчёску, привел в порядок всклокоченные и взбившиеся на ветру волосы, не спеша одел на голову клобук, этот шлем спасения, расправив белый шёлк. Выпрямившись, долго так стоял в оцепенении, опершись на посох, его жёсткие губы были слегка приоткрыты, шептали жаркие молитвы. После чего владыка нажал на округлость ,и тотчас створка приоткрылась, он отвинтил набалдашник и улыбнулся, внутри в самом пространстве сиял Лик Путеводительницы, иконочки Одигитрии. В ту самую минуту кто-то подкрался сзади, прикрыв глаза. Экзарх вздрогнул, почувствовав чужое прикосновение, будто повеяло вокруг знакомым ароматом. Он развернулся с такой резкостью, что упал из рук посох в куст чертополоха. Перед ним стояла Эдит, что было более чем неожиданно.
Эдит бросилась ему на шею, закричав так, что внизу под горами вздрогнули волны Белого моря.
– Ваше Преосвященство, вы живы! – восклицала она, её радости и восторга не было предела, – вы живы! – целуя его в щёку, вдруг резко отстранившись, – господи, какой вы колючий, – засмеялась.
Владыка лишь покачал головой, молча снял с себя клобук, свернул его покров и положил в чемоданчик, потом приподнял посох и попытался нащупать секрет, чтобы завинтить округлость трости. В ту самую минуту Эдит узрела внутри пространства образ иконочки и вновь воскликнула:
– Б о ж и я М а т е р ь П у т е в о д и т е л ь н и ц а! – она наклонилась и поцеловала край Лика.
Владыка Амвросий улыбнулся: – Эдит, как ты здесь оказалась? – тихо спросил он, – как ты поднялась на эту гору!? Ведь у меня было такое чувство, что в этом мире уже никого не осталось, кроме моей тени, да и то она временами тоже пропадала, – он нажал пружину посоха и сомкнул округлость, потом присел на камень у источника, усмехнувшись, плеснув на Эдит, – пей, я ж не купил источник!
Эдит напилась родниковой воды, умылась.
– Я живу у рыбаков, рядом с косой Белого моря, тружусь по заданию Флоры, рисую цветы пастельными карандашами, Флора говорит, что они, как живые, – Эдит улыбнулась, – по ту сторону горы, от вашего сгоревшего монастыря, возрождается Низкая земля, но пока на ней оживают только флоксы.
Эдит приоткрыла вырез на груди и вынула белый флокс, протянув его экзарху: – на одном соцветии целый роскошный букет...
– Как пахнет, – сказал он, опустив лицо в белый жемчуг соцветия,– и всё же, как ты напала на мой след?
– Вас первым заметил рыбак, – тихо сказала она,– когда вы в белом клобуке восходили на самую вершину, он сказал примерно так:– смотри, козявка, появился сам владыка, значит, наша земля возродится, расцветёт, зазвучат на ней радостные песнопения и хлынут паломники на звон тяжёлого колокола.
– Ты же могла сорваться, – усмехнулся он, – тропы на подъёме такие крутые и повсюду пепел, скользящий под ногами, – Амвросий усмехнулся, не отводя лица от букета на стебле белого флокса.
– Я, сорваться? – она расхохоталась, – да за кого вы меня принимаете?
Экзарх спрятал белый флокс в разрез кафтана, но так, чтобы его головка выглядывала наружу, это тронуло Эдит.
Коснувшись соцветия, сказала: – флоксы, любимые цветы моей матери, в жару, в середине августа, когда изнывали от засухи, она носила воду из маленького озерца, приговаривая: всё смолит, смолит землю... – Эдит улыбнулась воспоминаниям, – вы поняли меня, Ваше Преосвященство, мать тоже любила Божию Матерь Одигитрию, она у нас в доме была особо почитаема, соседка как-то мне сказала, что именно Одигитрия- Путеводительница послала маме уже на старости лет дочь по имени Эдит.
Экзарх опустил ладонь правой руки на голову Эдит со словами внутренней молитвы.
– Какая тяжелая у вас рука, – Эдит слегка отстранилась, – мозг такой нежный, ваши поступки бывают для меня такими неожиданными.
Амвросий развеселился: – кто бы говорил о неожиданных поступках? – он пододвинул чемоданчик, распахнул его и достал свёрток вместе с белоснежным полотенцем, расстелил на чемоданчике и развернул тормозок.
– Наверное, опять запечённые в тесте луковицы гладиолусов? –в насмешку бросила девушка. Бровь владыки приподнялась, – да нет, кажется, более существеннее, с запахом мяса, – и уже совсем весело, – скелет молодой куропатки.
– Господи, – удивилась Эдит, – что за язык появился у вас в разговоре? – и она примостилась рядом с трапезой, вкушая аромат пищи.
– Одичал я в пути скитаний, моя дорогая и прелестная Эдит, – сказал он, – как жаль, что я уже стар, – усмехнулся, разделывая куропатку и протягивая девушке мякоть птицы.
– Да вы это столько раз мне говорите, – Эдит засмеялась,– что я перестала вам верить, тем более, когда вы так близко, – и она принялась смаковать дичь, – я бы не сказала, что вы старый, скорее, вы притягиваете биотоками, влечёте к себе, вы красивый мужчина, владыка.
– Кому нужен монах-бессребреник, – усмехнулся Амвросий, – кроме духовности за душой ничего нет.
– Но у вас есть знания, – ответила Эдит, – хотя знания часто набивают оскомину на восприятие самой духовности.
– Я с тобой согласен, – владыка улыбнулся, – тем не менее, вера даёт нам возможность ощутить себя в мире, который бы мы хотели видеть, из знаний мы тоже черпаем веру.
– Возможно, лишь для меня все скиты, монастыри – сплошная загадка, кто-то из священников сказал, что в монастырях во время службы нет суеты, как в церкви, там все каноны читаются размеренно, спокойно, – продолжила Эдит, – церковь с её традиционными классическими устоями ещё могу понять, но монастырь, даже ваш свободный скит, – она вздохнула, – к сожалению, погребённый вулканической лавой, тоже был для меня какой-то непостижимой тайной, впрочем, как и вы сами, – и она поцеловала его руку в запястье, – странная жертвенность,– Эдит не досказала мысль, как с пика горы упал камень, следом перед ними распластался Орёл, в его когтях были чёрные чётки; он вырвал из рук девушки остатки дичи и стал выклёвывать кусочки мяса.
Эдит привстала и отодвинулась, Амвросий же усмехнулся, отдавая птице свою пищу.
– Орёл голоден, – сказал владыка тихо, – пусть доест за нас, – он ,приподняв полу кафтана, выпрямился во весь рост и сделал шаг к вершине горы, к нему приблизилась Эдит.
– Владыка, это хороший знак или плохой? Не часто парят орлы над кратером вулкана, размахивая в когтях чётки, – Эдит присела перед птицей.
– Я думаю, что это хорошая примета,– после некоторого раздумья ответил экзарх, – Орёл – птица вещая, и он не даром парил над нами, ты просто не заметила, он как бы сказал, что именно здесь надо строить монастырь, – и уже перейдя на шёпот, добавил,– это же монах Рафаэль, если обратила внимание на его глаза, то в них застыли скупые мужские слёзы, а в когтях он мнёт чётки.
– Вы правы, владыка, в его когтях чётки, просто я не придала этому значения, что в Орле есть нечто человеческое, – ответила Эдит, – только вы упрямый, почему именно в скалах?
– Самый что ни на есть наскальный монастырь, ведь Эди дал мне много злотых, пришло его время возмещать долги, – владыка улыбнулся, довольный и радостный.
– Так бы и начинали с этого,– сказала Эдит, – разве его слепота прошла?
– Крещение вернуло младенца к жизни, а рукоположение в священники дало молодому человеку прозрение.
– Эди стал священником? – девушка вздохнула, – везёт же мне на монахов в этой жизни! Что я вам говорила, Ваше Преосвященство?!
Амвросий добродушно рассмеялся: – славная ты, маленькая художница,– он растрепал её волосы, – а где же Луис в этой жизни, он же пошёл искать тебя и так долго не возвращается.
Эдит пожала плечами: – куда возвращаться? Повсюду чёрная земля, дышит гарью, даже репей и тот скрючился от зловоний!
– А тот старик, пастух Антоний? – усмехнулся Амвросий, – я так думаю, он где-то в окрестностях моря бродит с овечками.
– Вы что, видели Антония? – несколько смутившись, спросила Эдит, – у нас всё было на добровольных началах, никто никому ничем не обязан, вот о ком я сожалею, так о Луисе, ведь он был совсем ещё мальчик.
– Да не скажи, – владыка засмеялся,– только я упустил его, – он развёл руками, – ты оказалась пошустрее и быстренько прибрала парня к рукам.
– Когда я разбогатею, – взгляд Эдит потеплел, – я искуплю, свою вину перед вами. Построю женский монастырь и приглашу вас в духовники свободной обители, у вас будет счастливая старость!
Владыка рассмеялся: – спасибо за заботу, но почему именно монастырь, хватит и деревянной церквушки.
– Для вас деревянная церквушка? – Эдит покачала головой, – только обитель и самая что ни на есть роскошная, – она шикнула на Орла, который жадно выбивал из костей остатки пищи, – последую совету матери, монастырь и непременно женский! А вы будете нашим д у х о в н и к о м! Не сойти мне с этого места, чтобы я не исполнила своё желание, – и Эдит погладила по спине Орла, внимательно вглядываясь в чётки, которые он мял в когтях, – жаль, что погребен планшет , я бы сделала набросок парящего Орла с чётками.
Солнце клонилось к закату, от его лучей море в периметре гор казалось слегка розовым по окраске, возможно потому, что оно на редкость было спокойным.
– Идёмте со мной, владыка, – Эдит слегка поёжилась, – на закате всегда прохладно, я найду вам место у рыбаков, они славные люди, – и она протянула руку Амвросию, – особенно один из них…
Владыка отказался, – место монаха не на перинах рыбацких, а здесь под небом, на камнях, – он разбросал кафтан, – меня охраняет вещая птица, – и он отвернулся, дав понять, что разговор окончен.
Мелькнула тень за плоскогорьем, упав на вершину, Эдит настойчиво звала владыку в рыбацкий посёлок, он же более словно не слышал. Орёл захватил клювом остатки дичи и взлетел ввысь, паря над вершиной. Эдит, вздыхая, стала спускаться по тропе вниз, ведущей к морю, владыка вновь одел на себя белый клобук, поправил шёлк шлема и взобрался на самый пик, в аккурат у кратера, рядом с чертополохом, осматривая местность, словно прикидывая, насколько здесь будет уместен наскальный монастырь, а, может, что-то другое волновало его, искал что-то в окрест, или кого-то.
– Ну, хватит прятаться, – неожиданно громко сказал он, – я бы хотел видеть ближе, с лица, а не с тени, ты же не трус?
Тень покачнулась, раздвинулась и в нескольких шагах от владыки, из-за выступа вырос седой старик, почти с ним в рост. Амвросий усмехнулся, снял с головы клобук, бережно сложил в чемоданчик, свернул полотенце с крошками пищи, которую не смог унести Орёл Рафаэль.
– Ну что, – спросил он сухо, – долго так будешь ходить за мной тенью? – владыка присел на камень рядом с выступом, опустил подбородок на округлость трости, задумался.
Сумерки сгущались, плотным кольцом охватывая пространство, между облаками выплыла луна, разливая мерцающий свет над горами; а над морем сыпал мелкий дождь, приближаясь на обгоревшую землю, в седом старике Амвросий узнал в начале тень а потом и самого пастуха Антония.
– Она бросила меня, – скороговоркой сказал пастух, опираясь на палку, – бросила из-за тебя,монах!
Владыка усмехнулся: – ты мне льстишь. Она бросила тебя из-за Луиса, прежде совратив его, а ведь я готовил мальчика для высокой цели,– Амвросий развёл руками, – ну да кто старое помянет, как говорят, тому глаз вон, зачем же я тебе сейчас? У меня нет ничего, ни обители, ни места достойного.
– Ты лукавишь, монах! – грубо сказал Антоний, – я подслушал твой разговор с Эдит, –выдавил из себя Антоний, – верни м о е г о Э д и, – последние слова он проговорил так тихо, что даже ветер притаился, Орёл Рафаэль замедлил полёт над вершиной,– и мы разойдёмся с миром, мне тоже нужны злотые, ещё больше, чем тебе, м о н а х! Высвети дорогу к Эди, благослови к нему записочкой?
– Не понял тебя, пастух, – владыка приподнялся с камня, подтянув ближе к ногам чемоданчик, – какой еще Э д и? – ты в своем уме, старик?
– Эди Миляховский мой сынуля, мой дорогой мальчик, – и Антоний смахнул слезу, упав на колени перед владыкой, – я весь погряз в грехах, Ваше Преосвященство, я сукин сын, – он ударил себя в грудь,- но я одинок, как перст, дай адресок к Эди
-Вспомнил про Эди? -усмехнулся владыка-, ветер перемен унес его прах, разве ты не помнишь тот намоленный камень, и где ты похоронил живого уродца?
- Грешен, во сто крат грешен, но дай мне прощение, это сейчас в твоей власти, ибо ты ближе к богу-, Антоний затрясся в рыданиях.
– Мы все грешные, раз горячая лава слизала мою обитель, значит, и меня промяли сквозь сита греха, – он отвернулся, оглядывая местность, словно обдумывая способ защиты.
– Но ты всё равно ближе к ... Н е м у, – он выбросил руку ввысь, в бездну, усыпанную звёздами, на вершине они казались такими близкими, реальными, словно их можно было коснуться ладонью.
– Давай сейчас разойдемся по-мирному, – тихо сказал Амвросий, – встретимся по тру, я должен обдумать, как мне поступить в подобном случае, – и он сделал шаг в сторону, но Антоний преградил путь.
– Но мой Э д и! – вновь заплакал Антоний, – мой единокровный мальчик, я жажду его увидеть и не хочу терять ни секунды, дай мне его адресок!
– Ты в своём уме!? – владыка почти вышел из себя, – с чего ты решил, что Эди Миляховский твой сын?
– Я всё слышал, когда здесь была эта… с у к е р ь я Эдит, которая похерила и мою молодую жизнь, – он схватил правую руку владыки и облобызал её, однако тот оттолкнул пастуха.
– Да что за разговор ты слышал?– он еле сдерживал себя, чтобы не вылить свой гнев на Антония, – где же ты прятался?
– Владыка Лучезарный, – слукавил тот, – в горах есть эхо, а у моря оно особенно чуткое, – ответил пастух, – я тоже лишился всего, раскалённая лава захлестнула моих бедных овечек, они не успели выбраться из хлева, ведь беды случаются ночью, как водится. У меня остался лишь Э д и.
– Какой упрямый старик! – владыка в гневе ударил тростью о камень, – заталдычил Эди да Эди. Да по миру столько Эди! И как ты докажешь, что Эди сын несносного пастуха, где же ты был раньше? – Амвросий вконец вышел из себя, – тот Эди, о котором мы говорили с Эдит, католический священник, граф, богатый наследник, а ты гол как сокол! – и владыка замахнулся на него тростью, – прочь с моих глаз, сгинь, с а т а н а!
– О д и г и т р и я, – размеренно и тихо сказал Антоний, отводя остриё трости от себя, – в ваше й трости вмонтирована иконочка Одигитрия, которую я вложил в одежду уродца, это реликвия моей супруженции, – и он перекрестился, – наверное, она смотрит на нас сейчас с небес и шлёт проклятья!
– Какая ещё О д и г и т р и я? – владыка прислонился спиной к скале, мелкая дрожь охватила его тело, в этот миг он готов был разорвать на части пастуха.
Меж тем Антоний, изловчившись, ухватился за трость и попытался вырвать её из рук Преосвященного Амвросия, однако тот в бешенстве толкнул его в плечо, – стой, сатанинское отродье, ты вошёл в моё пространство с миром, покаянием, обливаясь слезами, а теперь бросаешься на меня с кулаками, – и он воткнул трость в грудь пастуха.
Тот вскрикнул от боли, меж ними завязалась потасовка. Антоний присел и потянул полы кафтана к себе, экзарх оступился и упал на спину, зажав в правой руке посох и размахивая им перед лицом Антония. Последний попытался снова выхватить трость, но Амвросий приподнялся и с размаху попытался нанести удар в пах Антонию, однако тот увернулся.
– Ваше Преосвященство, вы настоящий борец, я же гадкий и никчёмный мужчинка, – заскулил он, – кроме Эди в жизни у меня ничего нет, не хотите дать его адресок, верните мою иконочку Одигитрию, и она сама приведёт мои ножки к сынуле, – Антоний обливался слезами, пытаясь разжалобить Амвросия. – Моя жинка умерла при родах, я сам их принимал, как и у всех овечек, лишь Кентавр попутал меня в ту роковую ночь, я испугался уродца, завернул его в чистую тряпицу и сунул меж складок иконочку Одигитрию, моей жены, и оставил свёрток под камнем сгоревшего скита.
Разве мог знать, что тот камень заговорённый, или как ваша светлость говорит, намоленный, что Эди воскреснет и вырастет красивым умным… , – руки пастуха дрожали, пытаясь снова ухватиться за полы монашеской одежды.
– Так иди ищи своего уродца, изверг, если ты без царя в голове! – выдохнул Амвросий.
Неожиданно со стороны Белого моря прошила небосвод радуга и на её последнюю ступень шагнула Фиолетовая. Владыка, сжавшись, вобрал глубоко в грудь влажный ночной воздух, плечом толкнул Антония, выбросив трость вперёд, обороняясь с её помощью, но вновь упал на спину, прижимая к себе посох. В глазах покачнулось усыпанное звёздами небо, по ту строну моря нависла радуга, ему вдруг показалось, что на цветной лестнице раскачивалась женщина, махая фиолетовым платком, словно приободряя и вливая новые силы, но сознание покидало владыку…
Рыбацкий посёлок еще не спал, Эдит делала набросок ночного моря, окидывая взглядом вечернее пространство.
– Астерий, радуга! – крикнула она внезапно.
Из низкого домика выглянул рыбак, – что случилось, козявка? – спросил он, – что напугало тебя?
– Радуга! – Эдит провела рукой в сторону горизонта,– смотри, Астерий, на последней ступеньке женщина, она машет платком, это Фиолетовая, случилась беда!
– Это же хорошо, когда радуга, – улыбнулся рыбак,– значит, на той стороне затихает дождь и скоро будет у нас, в посёлке.
– Нет, я должна идти в горы, – твёрдо сказала она, – случилась беда с Амвросием.
– С твоим монахом?! – засмеялся Астерий, – да с ним же б о г!
Она стала складывать этюдник, – я должна идти в горы, теперь все мысли о нём.
– Идти ночью в горы?! – он вздохнул, – ни одной тропинки не видно, так и загудишь в пропасть.
– Но радуга, Астерий, она уже выдвинулась почти на середину моря,– Эдит покачала головой, – не прощу себе никогда, если с н и м что-то случится в горах, – помедлив, добавила, – принеси мне брезентовый плащ, вдруг действительно пойдёт дождь.
Астерий, удивляясь, зашёл в домик и вскоре вышел с плащевой накидкой, вздыхая, укрыл плечи Эдит:- так и быть, я пойду с тобой, нельзя девушке блуждать в горах ночью, здесь могут быть эльфы, ещё хуже тролли
Подсвечивая фонарём, Астерий ,опередив девушку, вывел на покатую горную тропу, петляющую меж каменных выступов. Звёздный полог ночи охватил туман, идущий с моря, лишь очертания радуги оставались пока довольно приметными, а на ней высвечивался силуэт Фиолетовой. Поднявшись почти на самую вершину, Эдит стала искать то небольшое плато возле кратера вулкана, где трапезничала с владыкой.
– Кажется здесь, – сказала Эдит, – я с ним встретилась, – дай свет, Астерий!
Рыбак посветил фонарём, неожиданно донёсся тихий стон.
– Здесь кто-то есть, – проговорил Астерий.
Свет от фонаря упал на камень в углублении выступа, Эдит рванулась вперед, вскрикнув: – владыка! – отчаянный крик разорвал горное пространство, девушка припала на колени, попытавшись приподнять Амвросия за плечи.
– Астерий! – крикнула она, – скорей, он здесь.
Астерий поставил фонарь у камня, отстранив Эдит, взял руку экзарха, нащупал пульс, вслушался…
– Он дышит, жив! – выдохнул Астерий.
– О, Пресвятая Богородица, он жив! – шептала Эдит, – он снова жив!
Астерий снял брезентовую накидку с плеч Эдит, расстелил на камнях, разорвал с плеча свою рубаху на полоски, – посвети мне, я не могу нащупать рану, хотя под рукой что-то липкое.., кровь!
Рядом с владыкой валялась трость, был распахнутым чемоданчик ,и одежда вся перевёрнута.
– Видно, шла борьба не на жизнь, а на смерть, – сказал Астерий, наконец ,нащупав рану в предплечье, – здесь находился ещё человек и очень сильный, раз справился с экзархом.
– Нет, мы были только вдвоём, – помедлив, Эдит очень тихо добавила,– кажется, вдали от выступа колыхалась тень, однако этому никто из нас не придал значения.
– Не бойся зверя, хищной птицы, гадюки по весне, когда она выползает из земли, бойся человеческой т е‑ н и, – ответил рыбак, перетягивая рану повязками,– когда-то я бросил родной угол и подался к Белому морю из-за этой проклятой тени. Она перевернула всю мою жизнь, отняла покой, так что бойся т е н и, Эди! А теперь подай мне ещё полотенце из чемоданчика, – он вздохнул, – сочится кровь, я никак не могу остановить.
Эдит порылась в вещах Амвросия, нашла чистое полотенце, Астерий перехватил предплечье, распахнул полы кафтана, разорвав на груди бязевую рубаху, из пазухи прямо к ногам Эдит что-то выпало.
– О д и г и т р и я! – она подхватила иконочку, – Путеводительница нас снова приблизила друг к другу.
Разгорался рассвет, над морем разливалась радуга, всё еще предвещая хорошую погоду, Амвросий с трудом приходил в себя.
– Вы узнаёте меня, Ваше Преосвященство, я Эдит! – шептала она, – я Э д и т…
Астерий поднёс к губам Амвросия флягу с ключевой водой, владыка отпил пару глотков.
– Вы ранены, – сказал он, – плечо кровоточит, надо как-то подняться, дойти до посёлка, мы поможем.
– Если поднимусь, то пойду, – сказал он, застонав, пытаясь повернуться и приподняться, – кажется, я воскрес снова, – он глубоко вздохнул, – Пресвятая Богородица пришла на помощь, дав мне П о к р о в.
Накрапывал дождь, очертания радуги становились всё расплывчатее. Эдит подняла посох, обратив внимание на то, что он был обломан, и вдруг сознание осенила мысль, потрясённая, девушка воскликнула: – Это он был здесь, гадкий пастушок! Это он сломал посох, только у него могла быть такая сила!
Владыка покачал головой, – наконец ты услышала меня!– Амвросий прикрыл тяжелые веки, улыбка обожгла его губы, – о н и сейчас, наверное, где-то здесь, – промолвил, – или, на худой конец, может вернуться, – владыка потянулся к Эдит и взял из её рук иконочку, сунул в пазуху, – если он вернётся, то за н е й.
– За н е й? – удивилась Эдит, – зачем ему Одигитрия?! Вы сказали, что в чемоданчике были злотые от Эди для постройки наскального монастыря, но кошелька нет, Ваше Преосвященство?!
– О н всё слышал, – сказал Амвросий, – потому что был в т е н и.
– Я же сказал, – промолвил Астерий, приподнимая владыку, – что бойся тени.
– Молодой человек прав, – ответил Амвросий, превозмогая острую боль в предплечье, – я прожил более чем полвека, но понял только сейчас, что во всём виновата эта проклятая тень, – он вдохнул в грудь влажного воздуха,– однажды в молодости она сбила меня с пути, лишь помог тот случай, когда я встретил намоленный камень.
С трудом, поднявшись и опираясь на плечо Астерия, владыка сделал шаг к тропе, ведущей вниз с горы к посёлку; рассвет становился всё ощутимее, хотя его уже перекрывал дождь, шедший плотной стеной с моря.
– Он ещё и вор? – воскликнула Эдит, захлопывая чемоданчик, – да я обойду все тропы в горах и своими руками вырву его чёрную душонку!
– Успокойся, козявка, – сказал Астерий, – теперь не до эмоций, надо спешить, пока дождь не перешёл в ливень, тогда камни станут скользкими, и мы с такой тяжёлой ношей не удержимся, – он крепче обхватил тело Амвросия: – а вы молитесь про себя, Ваше Преосвященство, молитесь, чтобы Дева Мария и нас заметила.
– Да я такой же грешный, как и вы, – ответил он, осторожно ступая по тропе, – всё кажется в относительном сравнении, когда ты на краю пропасти.
– Вы правы, – ответил Астерий, – но, и тем не менее, вы всё равно ближе к Богоматери, если она вам даст свой Покров, то и мы под ним как-нибудь с Эдит уместимся.
В ту же секунду владыка охнул, споткнувшись, еще бы миг.., Эдит успела подтянуть его к себе за поясок, которым был обхвачен кафтан Амвросия, тот лишь припал на колени, выбросив руки вперед и тут же отдёрнул ладони, уколовшись о шипы дикого куста. Астерий тоже присел, придерживая грузное тело за плечи. На обочине узкой горной тропы была разбросана дикая роза с двумя полубутонами; рассвет разошёлся сквозь тучи, пробившись первым отчаянным лучом, омытым дождём, и рассыпался на горной тропе.
– Куст дикой розы! – воскликнула Эдит, – но его не было, когда мы поднимались в гору.
– Здесь много троп, ведущих к морю, быть может, мы шли другой, – ответил Астерий, разглядывая куст розы, – словно сёстры-близнецы, а как пахнут! – он достал перочинный ножик и срезал две ветки с бутонами, – куст, выросший на пути, благоволил нам, одежды зацепились за шипы и владыка не сорвался вниз, – вот кого надо благодарить.
Экзарх приподнялся, осенив крестным знамением куст дикой розы. Миновав рискованный переход, они вышли к самому побережью, с тыльной стороны рыбацкого посёлка.
– Вы отдохнёте в нашем доме, Ваше Преосвященство, – сказал Астерий, – я ведь тоже живу почти как тот великий художник. Диван, стол и стул. Гений, сошедший с ума от одиночества, быть может, Эдит, напомни его имя..?
– В а н Г о г, – ответила она, – последняя его картина этюд о подсолнухах, наверное, он попытался вобрать кистью всё солнце, за что и поплатился, – девушка властно ввела Амвросия в комнату, заваленную эскизами. Эдит смахнула рисунки с тахты и усадила владыку подле больших подушек.
– Принеси цветочную мазь и марлевые повязки, – сказала она Астерию, после чего бросила две дикие розы на подоконник, вдруг заметив, что бутоны приоткрылись, возможно, от влажности воздуха, отчетливо выделив тональность окраски.
– Розы ожили, они бледно-жёлтые, а края лепестков словно в крови.
Эдит сорвала верхние лепестки, – я прочистила их от крови, – сказала машинально и вдруг спохватилась: – о боже, я где-то уже слышала подобную фразу, – и она повторила: – я прочистила их от крови...
Астерий внёс фляжку с проточной водой, промыл рану, протёр и наложил слой цветочной мази, туго обхватив предплечье повязкой.
– Рана глубокая, – сказал Астерий, – тот, кто ударил вас в плечо, имел на вас зло.
– Пастух торговался ,проникнув в мою тайну случайно, – ответил владыка, переводя дух и оглядывая комнату, – он просто сломал выпуклость посоха и пружина ослабла. Сама трость была заговорена молитвами другого священника ,она была с секретом.. Тот не ведал, посему схватился за посох, чтобы ударить. Пружина, сработав, зацепила плечо набалдашником, секрет сработал и выпала «Одигитрия» на грудь, я успел сунуть в пазуху, пастух, не заметив, кинулся к трости, но поскользнулся, дальше не помню, – владыка откинулся на подушки, прикрыл веки и еле слышно произнёс: – кто мог подумать, что я попаду в такую нелепую историю, подкидыш, наш дорогой Э д и, сынок Антония, – из глаз владыки набежала слеза и застыла на щеке, – наш Эди.., хорошо, что Марии нет, она бы этого не перенесла...
– Что вы сказали? – Эдит приблизилась к владыке, – Эди сын.., – у неё перехватило дыхание.
-Ни слова более об Эди никому!- Владыка сомкнул веки, давая понять, что разговор окончен
– Пусть экзарх подремлет, – тихо сказал Астерий, налил в кружку воды и вывел Эдит из комнаты, – кто такой Э д и? – спросил Астерий, внимательно вглядываясь в лицо Эдит, – ты мне о нём никогда не рассказывала.
Обнявшись, молодые прошли к берегу, дождь стих, но радуга над морем исчезла.
– Уму непостижимо, – тихо сказала Эдит, удрученная новостью,– католический священник Эди, которого опекал владыка, ещё и сын этого гадкого пастуха.
– Православный иерарх выучил католического пасынка, – удивился Астерий, – ты мне сказки не рассказывай.
– Здесь совсем другое, – ответила Эдит, – экзарх нашёл подкидыша и отвёз женщине, которая умела воскрешать младенцев, в этом было её призвание, она врачевала на божественных травах и цветах. Только Мария была католичка, ребёнок же умирал, и другого выхода не было в той ситуации.
Астерий наловил ладонями мальков, кишевших у берега после дождя, – сварим владыке на костре рыбёшку с шелухой, самая бодрящая уха, рыбий жир всю слабость снимет, – они свернули к дому, – а владыка большой экзарх, или маленький? – спросил Астерий, – высыпая рыбёшку прямо в котёл во дворе.
– Конечно, большой, – ответила она, – разве ты не заметил его осанку, поступь, даже когда он, скрипя зубами от боли, спускался вниз по горной тропе, и там не согнулся, чуть не сорвался, но сумел припасть на колени и ухватиться за куст дикой розы, правда, поранил левую ладонь о шипы, но не застонал.
– Да, я заметил, – Астерий набросал щепок и разжёг костер, колдуя над рыбацкой ухой. Эдит принесла марлю, чтобы процедить её вскоре и очистить бульон от чешуи. Жир плавал почти в три слоя, рыбёшка была хоть и мелкая, но наваристая. Бульон получился отменным, которым Эдит и Астерий думали подкрепить Амвросия.
Он же, подремав где-то полчаса, пришёл в себя, с трудом вспоминая, что же случилось? Напился из кружки проточной воды, тотчас заныло плечо, глухо застонав, он всё же поднялся и выглянул в окно, во дворе увидел Эдит и Астерия, разливавших уху в глубокие миски. Разворошив рисунки Эдит, на обороте одного из них сделал приписку чёрным пастельным карандашом, взял с подоконника две полураскрывшиеся палевые розы, понюхал и бросил в чемоданчик, спрятав меж одеждами иконочку Одигитрию. Встряхнул мантию и набросил на плечи. Распахнув дверь, экзарх постоял несколько минут в раздумье, оценивая ситуацию, ныло плечо. Потом Амвросий подставил колено под чемоданчик, раскрыл его, расправил клобук и осторожно одел на голову. Превозмогая боль, вышел на знакомую горную тропу.
– Ты всё равно от меня никуда не уйдешь! – сказал вслух Амвросий, – в раю или аду, но я рассчитаюсь, есть крупный должок за тобой, пастух!
Однако вскоре он вернулся, поддел замочек чемоданчика, достал из-под белья иконочку Одигитрия и поставил её на этажерке в уголке, меж рисунками, присел на стул, смахнув слезу, и спешно вышел.
Меж тем, Эдит внесла глубокую миску с наваристой ухой, пахнувшей дымком, в комнату, где должен был отдыхать владыка, и вздрогнула, чуть не расплескав бульон на ковёр.
– Астерий! – крикнула она, – его нет! Астерий, его опять нет!
Астерий прибежал на крик Эдит, на ходу вытирая полотенцем мокрое лицо, оглядел комнату, на тахте лежали свернутыми одеяло и повязка от раны, пропахшая цветочной мазью.
– Экзарх выпил всю воду, – и он отодвинул кружку, – обрати внимание, он унёс две жёлтые розы.
– Но владыка голоден и болен, – Эдит изнемогала, – нет моих больше сил, ну что это за человек! Камень, да и только!
Астерий прошёлся по комнате, тоже пытаясь отыскать приметы исчезновения, и вдруг заметил на этажерке рисунок с припиской.
– Эдит, – крикнул он, – смотри, владыка что-то написал нам!
Она приблизилась к этажерке, взяла в руки рисунок и стала по слогам читать:
«Мои дорогие, Эдит и Астерий, когда на Белом море вытянется большая тень, в тот миг, знайте, я обрёл покой и ощущение вечности блаженства. Если можешь, Эдит, девочка моя, прости меня и передай Эди Миляховскому Одигитрию Путеводительницу! Пусть её Покров напомнит Эди обо мне. Сохрани тайну, о которой ты услышала, Прости, что взял палевые розы.
Навсегда ваш э к з а р х.»
– Господи, – сказала Эдит, – и куда же опять он пошёл, в горы или в море?
Астерий выглянул в окно, на волнах, приколотая к берегу, покачивалась лодка.
– Нет, моторка на месте, – ответил Астерий, – значит, подался в горы.
– Я так думаю, он пошёл искать Антония, – сказала Эдит, – Эди дал злотые на строительство наскального монастыря, а они исчезли из чемоданчика той ночью.
Астерий вытер слёзы на глазах Эдит: – ну, полноте, козявка, горевать, жизнь продолжается, недаром я говорил, во всём виновата эта проклятая тень, – он взял из её рук рисунок с запискою, сложил вчетверо и спрятал за образа.
Успокаивая, он вывел Эдит к морю.
– Жаль, что уха остыла, а такая наваристая была, – и он засмеялся, – чтоб ты знала, козявка, что жизнь состоит из сплошных парадоксов, когда ты находишь то, что так долго ищешь, порою всю жизнь, оно тебя уже не радует, – Астерий усадил Эдит на нос моторки, примостился рядом, – так однажды случилось и со мной, я вынужден был уйти от тени, скитаясь по миру, пока не прибился к Белому морю, а здесь и встретил тебя, был божий промысел, наверное раз в жизни такое случается.
С пространства гор, с самой вершины раздался тяжёлый звон колокола. Эдит вздрогнула и отвела с плеча руку Астерия, бросив взгляд наверх, в горы, – мне послышался звон колокола, – сказала она, – колокол нарушил тишину, вслушайся…
– Это звон в твоих ушах, – ответил Астерий, – обитель снесена горячей лавой вулканической, вместе с церквушкой и всеми постройками, он бросил взгляд в даль моря, – может, это с той стороны побережья, набежавший ветер донёс эхо перезвонов, хотя, насколько я знаю, там мужской монастырь, католический, у них звон другой.
– Нет, вслушайся, – повторила она настойчиво, – раскат тяжёлого колокола, раз.., потом эхо, снова раскат.., потом эхо...
Эдит привстала с носа моторки и вбежала на горную тропу, следом за ней Астерий, словно боясь потерять девушку.
Солнце уходило за горы, осветив тени от куполов церкви, раскатистый перезвон колоколов настойчиво плыл с гор, повисая над рыбацким посёлком.
– Монастырь! – воскликнула Эдит, – я помню, на том месте на вершине шумел источник, меж камней росли нарциссы, тот горный островок назывался «Долиной Белых Нарциссов».
Над пиком, почти под облаками парил Орёл, то снижаясь к самим куполам церквушки, то вновь вырываясь в поднебесную высь.
– Орёл Рафаэль! – крикнула Эдит и захлопала в ладоши, – он парит над куполами!
– Я не вижу Орла Рафаэля, – удивился Астерий.
– Он уже скрылся за куполом, в солнечных бликах можно лишь понять, что это вещая птица парит над нами.
На песок что-то упало с высоты и прочертило полосу.
– Чётки! – вскрикнула Эдит и подбежала к ним, – синие чётки владыки! – она подхватила их и, поцеловав каждую бусинку, набросила на левую руку, – значит, он ещё в горах, ищет своё преображение.
– Я не вижу никакого монастыря на горе, – сказал Астерий, разглядывая чётки, – но думаю, это знак от владыки.
Солнце уходило к западу, и Белое море охватили розовые блики заката.
– Наверное то, что видишь ты, Эдит, – сказал Астерий, – мне не дано видеть, я не художник, – он обнял девушку за плечи и вывел с горной тропы к рыбацкому поселку; звон колокола то стихал, то нарастал с новой силой, словно звал подняться на вершину. На зыби моря колыхнулась расплывчатая тень, силуэтом похожая на высокий раскидистый цветок.
– Тень экзарха! – вскрикнула Эдит, – прижавшись к Астерию, – значит, он ушёл с горы, спустился в море, дав нам понять своим подарком – ч ё т к а м и!
– Может, с гор он свернул в море с другой стороны, которая нам была не видна, – ответил Астерий.
– Так или иначе по тени этого цветка можно понять, что он познал новое п р е о б р а ж е н и е, надо постоянно меняться.
– Я ушёл от тени и снова с ней столкнулся, – Астерий вздохнул,– откуда вышел, туда и пришёл, – он засмеялся, пытаясь обнять подругу по жизни.
– Но мы встретились именно благодаря т е н и, – сказала Эдит, – я не знала, что было бы со мной, если бы я не узнала тебя, ты упал, как звёздочка и рассыпался спасительным светом на пути. Это ты помог мне привести в чувство экзарха, вдохнуть в него воскрешение, продлить тем самым и моё.
– Но экзарх унёс с собой две жёлтые розы? Ты не задумывалась, почему? – спросил Астерий.
– Жёлтые тона – это царский цвет розы для Богородицы, на небесах дарят чётное число роз.
Волны одна за другой накатывались на берег, погода снова выходила из-под контроля, Астерий подхватил Эдит под руку и увлёк домой: – как жаль, что остыла рыбацкая уха, с дымком, мы её готовили с таким настроением, а Его Преосвященство взял да исчез.
Эдит, встряхнув одеяло, расстелила на тахте, – я чувствую запах одежды Амвросия, – ответила она, – от него всегда исходил особый запах, ни с кем не спутаешь, но он волнует меня.
– Дался тебе этот запах! – Астерий распахнул окно, тотчас ворвался штормовой ветер и охватил комнату, разбросав в воздухе рисунки.
– Астерий, закрой окно, – крикнула Эдит, – мне кажется, о н из своей тени смотрит на нас и всё видит, – она присела на подоконник, взяла в руки лист бумаги, прочертив силуэт тени, разлившейся над Белым морем, и застыла, охваченная видением.
Надвигался шторм, подул холодный ветер, Эдит лишь поёжилась, но продолжала рисовать.
– Ты же хотела закрыть окно, – Астерий подошел к ней ближе, – а если о н вернётся? – неожиданно спросил Астерий, – какое я место займу в твоей жизни?
Эдит не придала значения вопросу Астерия или не пожелала ответить, продолжая рисовать.
– Я был во сто раз прав, когда говорил себе: Астерий, бойся тени, – он попытался обнять Эдит, но она уклонилась, расчерчивая штрихи тени.
– Ты мешаешь сосредоточиться, – она усмехнулась, – я же не спрашиваю, к о г о т ы л ю б и л, почему бежал от тени? – и попросила, – будь человеком, оставь меня одну, я вижу поступь большого экзарха, он спешит по волнам, благословенным жестом посылая нам п р е о б р а ж е н и е.
Астерий пожал плечами, и, обиженный, покинул Эдит. Она соскочила с подоконника, взяла этюдник и, набросив на плечи брезентовую накидку, вышла из дома, пристроившись под навесом так, чтобы воочию, с натуры, ощутить приближение шторма, разрастающейся тени на огромных пенистых волнах; впервые остро почувствовав боль утраты, Эдит не знала, что делать, почему-то пришла мысль, что она ровным счётом ничего не знает о папирусе, из стеблей которого экзарх выделывал полоски бумаги, записывая на них свои размышления, как жаль, что затерян след в сгоревшем монастыре от свитка папируса, загадочно исчез и остров Монаха с истоками Чёрного Гладиолуса. Теперь лишь приходится с помощью кисти и, уповая на провидение, проникать в тайную суть того, кого охватила своим Покровом Пресвятая Богородица, давая тем самым Эдит прикоснуться к чаше, переполненной изумрудом высоких чувств.
– Это такой изумруд, – вспомнились слова монахини Евлампии, – словно не было той жизни, ушёл Луис и не вернулся, исчезла из монастыря Евлампия, – думала Эдит, – рисунок, вот что поможет проникнуть в суть утерянного, – и она, переключив рычаг мышления, стала входить в суть экзарха, прочерчивая штрихом надвигающийся шторм, который вот-вот захлестнёт грозной волной остров уединения монаха Амвросия – таково было видение Эдит.
.Вместо эпилога
- ПОСЛЕДНИЕ СКИТАНИЯ
Владыка ,опираясь на посох ,с трудом петлял меж разрушенного горного пространства, окидывая взглядом узнаваемые ,но унесенные стихией в небытие еще недавно процветающие строения, с песнопениями верующих, застольями для бедных и страждущих. Всё погребено ,может ,провидец уже заботился и о том, кто будет служить под земной корой, в новом измерении, и потому унес туда и новый Корвей ,выстроенный экзархом Белого моря 15 лет назад. Ухватив эту мысль, Амвросий невольно усмехнулся.
Он, выбрав горный отсек ,поудобнее уселся, устремляя взор к раскатам моря, которое переливалось в лучах заходящего солнца бирюзой прямо под ним.
Было тихо, даже не слышно шума волн. Владыка прикрыл глаза, думая о том, что и злотые, дарованные принцем Эди ,исчезли .Он так и не напал на след рас путника пастуха ,хотя у него было такое ощущение, что этот плут снова идет за ним по пятам.
-Надо бы найти укрытие на ночь,- невзначай подумал Амвросий, как неподалеку от него упал камень, скатившись прямо к ногам, и ударив по правой щиколотке, самой уязвимой.
Экзарх, приподнявшись, стал шептать слова молитвы ,обращаясь за помощью к Благочестивой Деве Марии. Молясь про себя ,владыка ,как правило, закрывал веки, чтобы полностью уйти в созерцание своего обращения. Однако сверху посыпались галька, Амвросий ,приоткрыв глаза, увидел быстро спускавшегося по тропе пастуха. Владыка не вытерпел: -что ходишь за мной по пятам, нечестивец? Верни мне украденные злотые, это пожертвования на новый скит!
-Прости мою скверную душонку,- воскликнул пастух, размахивая перед Амвросием мешочком,в котором звенели золотые монеты, -укажи лишь адресок к моему принцу Эди, и я буду за тебя молиться остаток жизни, которая меня здесь не баловала,- он, хитрец, смахнул слезу ,-жена попалась мне хилая телом и сразу после родов представилась.
-Ты мне это уже сто раз рассказывал ,а я не ведаю, о каком принце ты сетуешь, я же монах!-владыка окончательно пришел в себя после молитвы, следом ударил о камень набалдашником, раздался звон…
-Тогда верни мне иконочку Одигитрию, она сама укажет путь к сынуле…-пастух ухватился за полы кафтана Его Преосвященства,-когда я уложил уродца под намоленный камень,то в его одежды была спрятана реликвия моей супруги. Яже узнал ее, когда набалдашник твоего посоха приоткрылся, -и он стал трясти посох с такой силой, что грузное тело монаха пошатнулось и еще какой-то миг ,и посол оказался бы в руках злосчастного.
С вершины камнем упал Орел Рафаэль и ухватился за ворот пастуха, оторвав его от земли.
--Что за проделки вещей птицы?- пастух замотал ногами в воздухе, -я пришел за своим добром, у меня теперь нет даже овечек, всех погребла стихия, будь проклята!
-Опоздал с проклятьями,-усмехнулся экзарх, очищая свою одежду.
Однако Орел не слышал воплей ,поднимая всё выше и выше…Из пазухи пастуха выпал мешочек ,ударившись о камень, и зазвенев. Владыка в радостях подхватил подношение на строительство нового скита и тотчас спрятал его в глубине разреза кафтана. Вскоре Орел с добычей скрылись в очертаниях небесных за выступом нового горного образования, которого владыка вначале не заметил .Экзарх сбросил с себя накидку и , полулежа на ней, стал разговаривать сам с собой.
-Оказывается, и у меня еще остались провидцы, если я спасся от негодяя, да еще вернул свои подношения,- он вздохнул,- сейчас бы время чего-то пожевать …-владыка стал оглядываться, но в беспорядке после распада земной коры не видно даже травинки ,которой бы он мог утолить и голод, и жажду .Амвросий услышал шум крыльев , и вскоре возле него сел Орел, и стал клювом счищать грязь с полы кафтана.
-Ну, не щипай, меня друг,- владыка погладил его по голове,- куда ты унес нехристя?
-Бросил его на съеденье рыбам,- повернулся в сторону моря,- видишь, еще барахтается на волнах твой обидчик -воскликнул Рафаэль,- я приглядел, Ваше Преосвященство, место для нового скита, в аккурат ,вблизи залив, нетронутое ни людьми, ни хищниками, там не пробуждается горная аурикула ,по моим сведениям, и ваш скит будет стоять до нового пришествия и воскресения из мертвых Е Г О,- он кивнул вверх,- это остров, может тот, который ушел на твоих глазах ,и поднялся вновь но в более спокойном месте, где не достанет тебя эта несносная девица с планшетом,- и он расхохотался ,смутив при этом самого Амвросия.
-Есть и пища ,и вода ?-с радостью в голосе спросил владыка, -я не жевал целую вечность и почти больной ,потому что вчера под ночь нанес мне увечья тот пастух.
Орел растрепал одежду владыки ,увидев сквозь бинт проступившую и запекшую кровь на правом предплечье:- ты слишком всегда был добр, от того и пастух смог приблизиться к тебе, шантажируя Эди.
Владыка, махнув рукою, прикрыл полой кафтана рану: -теперь это в прошлом, и Эди, нашедший свою дорогу ,и пастух ,и несносная ,но красивая Эдит ,-он вздохнул, -придется всё начинать заново ,и книгу отслеживать в мыслях, вспоминая, и скит восстанавливать, и молиться за новый приход ,потому что без него, без верующих ,что я? Ни к т о!
-Довольно грустных ноток, -Орел взлетел, -следуй за мной по тропе, откуда спустился тот пастух, но опираясь на посох ,чтобы не оступиться ,мой друг, когда –то ты спас меня, теперь пришло и мое время собирать разбросанные камни.
Закат сужался ,звездное небо было так близко для владыки, что, казалось, можно и рукой подтянуться. Он ступал следом за шумом крыльев Орла, почти наощупь целую ночь, уже практически потеряв ориентир.
Силы были на исходе, еще миг и он упадет лицом на камни ,и всё! Он то поднимался вверх, то спускался по горной опасной тропе ,то переходил через холмы, нетронутые раздвоением земной коры ,понимая лишь одно, что вступает в какой-то новый мир ,однако попрежнему ни пищи ,ни воды нигде не было.
-Ну вот мы и на месте! -раздался почти рядом мужской голос, несколько басовитый.
Пробуждалось утро и первые лучи солнца окрасили местность ,владыка вздрогнул, проснувшись ,ибо монашеская жизнь научила его спать на ходу ,точнее ,дремать…
Вместе с голосом он услышал и шум прибоя, и морской воздух словно окатил его легкие. Владыка поднял голову, надеясь увидеть Орла, однако предрассветное небо было чистым.
Рядом с ним раздался смех:- Ваше Преосвященство ,я тот, кого вы ищете в небе, я вышел из своего тела благодаря вашим молитвам всю ночь во время пешешествия через разрушенное горное пространство, я ваш охранник, монах Рафаэль.
-На лучшее счастье я и не надеялся, -он похлопал по плечу инока, который был в рост с него, но только гораздо моложе ,что импонировало Его Преосвященству.
-Проклятье Кентавра погребено в морской пучине вместе с дрянным пастушком. -усмехнулся новоназначенный,- когда я поднял его хилое тело и пронесся над морем, я думаю, ты видел это на минувшем закате, передо мной мелькнул синий василек, вначале я принял его за кусочек неба, которое открыла предгрозовая туча, но тотчас услышал смешок, я не с кем не мог его спутать,- инок обнял плечи владыки,- в нем я узнал хриплый голос Кентавра ,который напомнил ночь погребения младенца-урода с татуировкой синего василька , оставленную им на груди новорожденного, как печать,- помолчав, инок Рафаэль продолжил,-
В ту минуту я почувствовал, как некая сила вырвала из когтей пастуха и толкнула его в морской водоворот,что не пожелал бы такой кончины никому! Это о н ,получеловек, полуконь, Кентавр , сказавши мне следующее: «если тот ,кого ты спас, проведет ночь в молитвах, ты выйдешь из своего тела и примешь новый облик за участие в спасении принца Эди Миляховского…»
-Значит, ночью я правильно молился, раз сам Кентавр следил за мной, хотя я был таким уставшим ,что не мог почувствовать еще и присутствие другого, только шум крыльев был моим сопровожатым.- промолвил владыка.
-Но какое отношение Кентавр имеет к принцу Эди? -инок пронзил владыку взглядом.
-Он же оставил в ту роковую ночь свою печать, вытравив синий василек на груди уродца?
-Интересно, значит, и Кентавр был за него в ответе, кое-что проясняется,- вздохнул Рафаэль
-Место действительно необычное,- Амвросий попытался уйти от щекотливой темы, слишком большой срок для несения этой ноши ,и, оглядываясь, продолжил,- тишина ,я вижу холмы, меж которыми можно будет заложить новый скит, вблизи залив, значит есть и пресная вода, а я не пил целую вечность, дышал только ночной влагой.
Владыка присел на камень, поросший мхом, лицо его просветлело: -прекрасное утро, Рафаэль, когда мы построим скит, новую обитель, я приведу сюда Эди, поистине, он тебе понравится, потому что он хорошо воспитан ,Марием да и самим приором, которому ты также угождал синими васильками,- и они стали вместе смеяться.
Наступал новый день ,безоблачный, суливший надежды тем, кто праведным трудом постигал истину. И океан космический дышал спокойствием, навевая приятные думы о новом ските.
– Господи, – сказала Эдит, – и куда же опять он пошёл, в горы или в море?
Астерий выглянул в окно, на волнах, приколотая к берегу, покачивалась лодка.
– Нет, моторка на месте, – ответил Астерий, – значит, подался в горы.
– Я так думаю, он пошёл искать Антония, – сказала Эдит, – Эди дал злотые на строительство наскального монастыря, а они исчезли из чемоданчика той ночью.
Астерий вытер слёзы на глазах Эдит: – ну, полноте, козявка, горевать, жизнь продолжается, недаром я говорил, во всём виновата эта проклятая тень, – он взял из её рук рисунок с запискою, сложил вчетверо и спрятал за образа.
Успокаивая, он вывел Эдит к морю.
– Жаль, что уха остыла, а такая наваристая была, – и он засмеялся, – чтоб ты знала, козявка, что жизнь состоит из сплошных парадоксов, когда ты находишь то, что так долго ищешь, порою всю жизнь, оно тебя уже не радует, – Астерий усадил Эдит на нос моторки, примостился рядом, – так однажды случилось и со мной, я вынужден был уйти от тени, скитаясь по миру, пока не прибился к Белому морю, а здесь и встретил тебя, был божий промысел, наверное раз в жизни такое случается.
С пространства гор, с самой вершины раздался тяжёлый звон колокола. Эдит вздрогнула и отвела с плеча руку Астерия, бросив взгляд наверх, в горы, – мне послышался звон колокола, – сказала она, – колокол нарушил тишину, вслушайся…
– Это звон в твоих ушах, – ответил Астерий, – обитель снесена горячей лавой вулканической, вместе с церквушкой и всеми постройками, он бросил взгляд в даль моря, – может, это с той стороны побережья, набежавший ветер донёс эхо перезвонов, хотя, насколько я знаю, там мужской монастырь, католический, у них звон другой.
– Нет, вслушайся, – повторила она настойчиво, – раскат тяжёлого колокола, раз.., потом эхо, снова раскат.., потом эхо...
Эдит привстала с носа моторки и вбежала на горную тропу, следом за ней Астерий, словно боясь потерять девушку.
Солнце уходило за горы, осветив тени от куполов церкви, раскатистый перезвон колоколов настойчиво плыл с гор, повисая над рыбацким посёлком.
– Монастырь! – воскликнула Эдит, – я помню, на том месте на вершине шумел источник, меж камней росли нарциссы, тот горный островок назывался «Долиной Белых Нарциссов».
Над пиком, почти под облаками парил Орёл, то снижаясь к самим куполам церквушки, то вновь вырываясь в поднебесную высь.
– Орёл Рафаэль! – крикнула Эдит и захлопала в ладоши, – он парит над куполами!
– Я не вижу Орла Рафаэля, – удивился Астерий.
– Он уже скрылся за куполом, в солнечных бликах можно лишь понять, что это вещая птица парит над нами.
На песок что-то упало с высоты и прочертило полосу.
– Чётки! – вскрикнула Эдит и подбежала к ним, – синие чётки владыки! – она подхватила их и, поцеловав каждую бусинку, набросила на левую руку, – значит, он ещё в горах, ищет своё преображение.
– Я не вижу никакого монастыря на горе, – сказал Астерий, разглядывая чётки, – но думаю, это знак от владыки.
Солнце уходило к западу, и Белое море охватили розовые блики заката.
– Наверное то, что видишь ты, Эдит, – сказал Астерий, – мне не дано видеть, я не художник, – он обнял девушку за плечи и вывел с горной тропы к рыбацкому поселку; звон колокола то стихал, то нарастал с новой силой, словно звал подняться на вершину. На зыби моря колыхнулась расплывчатая тень, силуэтом похожая на высокий раскидистый цветок.
– Тень экзарха! – вскрикнула Эдит, – прижавшись к Астерию, – значит, он ушёл с горы, спустился в море, дав нам понять своим подарком – ч ё т к а м и!
– Может, с гор он свернул в море с другой стороны, которая нам была не видна, – ответил Астерий.
– Так или иначе по тени этого цветка можно понять, что он познал новое п р е о б р а ж е н и е, надо постоянно меняться.
– Я ушёл от тени и снова с ней столкнулся, – Астерий вздохнул,– откуда вышел, туда и пришёл, – он засмеялся, пытаясь обнять подругу по жизни.
– Но мы встретились именно благодаря т е н и, – сказала Эдит, – я не знала, что было бы со мной, если бы я не узнала тебя, ты упал, как звёздочка и рассыпался спасительным светом на пути. Это ты помог мне привести в чувство экзарха, вдохнуть в него воскрешение, продлить тем самым и моё.
– Но экзарх унёс с собой две жёлтые розы? Ты не задумывалась, почему? – спросил Астерий.
– Жёлтые тона – это царский цвет розы для Богородицы, на небесах дарят чётное число роз.
Волны одна за другой накатывались на берег, погода снова выходила из-под контроля, Астерий подхватил Эдит под руку и увлёк домой: – как жаль, что остыла рыбацкая уха, с дымком, мы её готовили с таким настроением, а Его Преосвященство взял да исчез.
Эдит, встряхнув одеяло, расстелила на тахте, – я чувствую запах одежды Амвросия, – ответила она, – от него всегда исходил особый запах, ни с кем не спутаешь, но он волнует меня.
– Дался тебе этот запах! – Астерий распахнул окно, тотчас ворвался штормовой ветер и охватил комнату, разбросав в воздухе рисунки.
– Астерий, закрой окно, – крикнула Эдит, – мне кажется, о н из своей тени смотрит на нас и всё видит, – она присела на подоконник, взяла в руки лист бумаги, прочертив силуэт тени, разлившейся над Белым морем, и застыла, охваченная видением.
Надвигался шторм, подул холодный ветер, Эдит лишь поёжилась, но продолжала рисовать.
– Ты же хотела закрыть окно, – Астерий подошел к ней ближе, – а если о н вернётся? – неожиданно спросил Астерий, – какое я место займу в твоей жизни?
Эдит не придала значения вопросу Астерия или не пожелала ответить, продолжая рисовать.
– Я был во сто раз прав, когда говорил себе: Астерий, бойся тени, – он попытался обнять Эдит, но она уклонилась, расчерчивая штрихи тени.
– Ты мешаешь сосредоточиться, – она усмехнулась, – я же не спрашиваю, к о г о т ы л ю б и л, почему бежал от тени? – и попросила, – будь человеком, оставь меня одну, я вижу поступь большого экзарха, он спешит по волнам, благословенным жестом посылая нам п р е о б р а ж е н и е.
Астерий пожал плечами, и, обиженный, покинул Эдит. Она соскочила с подоконника, взяла этюдник и, набросив на плечи брезентовую накидку, вышла из дома, пристроившись под навесом так, чтобы воочию, с натуры, ощутить приближение шторма, разрастающейся тени на огромных пенистых волнах; впервые остро почувствовав боль утраты, Эдит не знала, что делать, почему-то пришла мысль, что она ровным счётом ничего не знает о папирусе, из стеблей которого экзарх выделывал полоски бумаги, записывая на них свои размышления, как жаль, что затерян след в сгоревшем монастыре от свитка папируса, загадочно исчез и остров Монаха с истоками Чёрного Гладиолуса. Теперь лишь приходится с помощью кисти и, уповая на провидение, проникать в тайную суть того, кого охватила своим Покровом Пресвятая Богородица, давая тем самым Эдит прикоснуться к чаше, переполненной изумрудом высоких чувств.
– Это такой изумруд, – вспомнились слова монахини Евлампии, – словно не было той жизни, ушёл Луис и не вернулся, исчезла из монастыря Евлампия, – думала Эдит, – рисунок, вот что поможет проникнуть в суть утерянного, – и она, переключив рычаг мышления, стала входить в суть экзарха, прочерчивая штрихом надвигающийся шторм, который вот-вот захлестнёт волной остров уединения монаха Амвросия – таково было видение Эдит.
Собственно говоря, вот и вся новая версия новеллы о скитаниях большого экзарха и его дивном Чёрном Гладиолусе; Преосвященный Амвросий унёс тайну п р е о б р а ж е н и я, оставив после себя тень, войдя однажды в которую, Эдит пыталась разгадать новое место обетования – в горах, море, или на дне его?
Остаётся сожалеть об одном, что ещё горячий мозг, придавленный суетой мирской, не смог выплеснуть, или развернуть два поворота в новой версии новеллы –
«Ц в е т о к К е н т а в р а» и «К о л о с п а п и р у с а м о н а х а К и р и л л а», однако, если Пресвятая Богородица пошлёт силы правой руке, то наступит новое восхождение в гору. И последний штрих,– если не я, так кто же воскресит т е н ь ушедшего по этапам э к з а р х а, – так я задержала точку, дав и ей передышку в скитаниях по волнам Белого моря.
20 сентября 2003 -й год